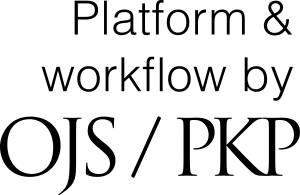К теории «мальтузианской ловушки». Часть 2
[To read the article in English, just switch to the English version of the website.]
Мозиас Пётр Михайлович — к.э.н., ведущий научный сотрудник отдела Азии и Африки ИНИОН РАН, доцент департамента мировой экономики НИУ ВШЭ.
SPIN-RSCI: 6521-0099
ORCID: 0000-0003-0199-2753
Researcher ID: L-6066-2015
Scopus Author ID: 57196746604
Для цитирования: Мозиас П.М. К теории «мальтузианской ловушки». Часть 2 // Современная мировая экономика. Том 1. 2023. № 4 (4).
Ключевые слова: традиционное общество, «мальтузианская ловушка», редистрибуция, протопромышленность, общественно-экономическая формация.
Аннотация
Современная историко-экономическая наука утверждает, что вплоть до начала Промышленной революции в конце XVIII в. экономический рост в мире был крайне медленным и неустойчивым. Данная статья прослеживает, как усилиями многих экономистов и историков постепенно складывается концепция «мальтузианской ловушки», призванная объяснить многовековое пребывание аграрного общества в относительной стагнации. Применительно к традиционным экономикам клиометрические исследования в целом подтверждают идеи Т. Мальтуса о компенсации позитивного влияния технологического прогресса на подушевой доход приростом населения. Современные ученые дополняют их анализом социальной структуры общества, находящегося в «мальтузианской ловушке», присущих ему институтов редистрибуции, происходивших в те времена периодических расцветов и упадков протопромышленности и торговли. В статье показана логическая взаимосвязь этих элементов в рамках мальтузианского династийного цикла. Проводится сопоставление концепции «мальтузианской ловушки» с марксистским видением исторического процесса. Показано, какие позитивные наработки марксистского подхода могут быть имплантированы в современную теорию.
Начало статьи читайте в предыдущем номере журнала «Современная мировая экономика».
3. Маркс и Мальтус: глядя из XXI века
Сама констатация, что современная теория экономического развития во многом базируется на идеях Т. Мальтуса, может оказать шокирующее воздействие на людей, воспитанных в марксистской традиции (а она отчасти и сейчас воспроизводится в России системой образования). Как известно, в советский период всю историю немарксистской экономической мысли делили на две эпохи: домарксистскую (значимость тогдашних экономистов оценивали по тому, подготовили ли они какие-нибудь рациональные идеи, впоследствии воспринятые Марксом) и послемарксистскую, по поводу которой было достоверно известно: появившиеся тогда теории не могут быть правильными просто потому, что уже есть истинное, марксистское видение соответствующей проблематики.
Более того, экономические концепции всего постклассического времени (водоразделом тут служили работы Д. Рикардо и его ближайших последователей) с подачи самого Маркса считались «вульгарными». Предполагалось, что их разработчики и не ставили перед собой цели добросовестного научного поиска. Вместо выстраивания причинно-следственных конструкций они или скользили по поверхности явлений, ограничиваясь рассмотрением чисто функциональных взаимосвязей, или прибегали к сознательным фальсификациям.
Мальтус не вполне укладывался в эту схему: он жил до Маркса и разделял многие воззрения Рикардо, но оценки Маркса по его поводу были уничижительные11. Выход из этого затруднения был найден в утверждении, что Мальтус – это и есть один из исторически первых вульгаризаторов в экономической науке, а Мальтусова теория народонаселения с ее жесткими оценками – это не просто ангажированная, а бессовестная апологетика капитализма [Афанасьев 1988].
Непосредственно Маркс полемизировал с Мальтусом по поводу закономерностей, свойственных капитализму в том его виде, который сам Маркс наблюдал в середине XIX в. Но нас в пределах данного исследования интересует другое: не источники формирования стоимости (здесь Мальтус, как и до него А. Смит, а после него А. Маршалл и многие другие, был амбивалентен, а Маркс проявлял идеологически мотивированную последовательность в отстаивании принципа определения стоимости трудом) и не присущие раннему капитализму взаимосвязи экономики и демографии (ни Мальтус, ни Маркс не дожили до завершения демографического перехода, они просто экстраполировали на будущее сложившиеся у них представления о динамике народонаселения, и оба ошиблись – Мальтус с утверждениями о том, что обществу и дальше будет свойственна высокая рождаемость и поэтому массовая бедность неискоренима, а Маркс – с предсказаниями, что постоянное воспроизводство избыточного населения в виде «резервной армии труда», т.е. безработицы, станет одной из причин краха капитализма как системы).
Нас занимает, как выглядят в свете марксизма, с одной стороны, и мальтузианства – с другой, ответы на вопросы о периодизации развития традиционных, докапиталистических обществ, логике их эволюции и последующей индустриальной трансформации. Понятно, что любая периодизация основана на неких критериях, а значит, это дело во многом субъективное. Абстрактно говоря, чем больше периодизаций, тем лучше: их совокупность позволяет составить более комплексное представление об изучаемом объекте.
Скажем, периодизации истории мировой экономики у К. Бюхера (выделявшего стадии замкнутого домашнего, городского и народного хозяйства), К. Поланьи (разграничившего племенное, архаическое редистрибутивное и современное рыночное общество) и У. Ростоу (проследившего путь экономики от стадии традиционного общества к созданию предпосылок для индустриального «взлета», собственно «взлету», «движению к зрелости» и «эре массового потребления») не столько опровергают, сколько дополняют друг друга. Все они так или иначе выделяют принципиальный рубеж в мировой истории, когда на смену аграрному хозяйству приходит индустриальный капитализм, и стремятся объяснить эти радикальные перемены.
Если в таком контексте рассматривать вклады в теорию исторического процесса, сделанные Марксом и Мальтусом, то за первым, вроде бы, явное преимущество. Он предложил логичную, до сих пор очень влиятельную периодизацию, основанную на более или менее четких критериях. Тогда как Мальтус и вовсе не усматривал принципиальной разницы между современным ему обществом и прежними временами. Он предполагал, что описанные им закономерности действуют всегда и всюду.
Аналитическая схема «мальтузианской ловушки» была сконструирована экономистами уже в ХХ в. – для того, чтобы задним числом разграничить эпохи до и после Промышленной революции. Это не буквальное воспроизведение теории Мальтуса, а использование и реинтерпретация ее рациональных элементов. Но в любом случае концепция «мальтузианской ловушки» остается достаточно аморфной, по существу огромный кусок человеческой истории она рисует как нечто однообразное и однородное.
Тем не менее, с момента появления Марксовой теории прошло более полутора веков. Ее и в нашей стране уже достаточно давно перестали воспринимать как Единственно Верное Учение. При всем уважении к Марксу можно и нужно ставить вопрос, насколько предложенная им периодизация согласуется с эмпирическими фактами, накопленными исторической наукой за время, прошедшее после его смерти, и со сделанными с тех пор новыми теоретическими обобщениями.
Отметим сразу, что под Марксовой периодизацией истории мы имеем в виду не затверженную в советское время эпигонами «пятичленную схему» (ее Л.С. Васильев метко назвал «вульгарным истматом»), а взгляды самого Маркса, сформулированные им в 1850–1860-е гг. [Васильев 1998]. Но тут приходится делать и еще одну важную оговорку. Понимание того, в каком порядке сменяют друг друга стадии общественного развития («способы производства» и соответствующие им «общественно-экономические формации»), Маркс в самой общей форме изложил в главных своих экономических трудах: «К критике политической экономии» (1859) и первом томе «Капитала» (1867). Вслед за первобытным строем он поставил азиатский способ производства, затем – античный (рабовладельческий), после – феодальный, вслед за ним – капитализм, которому на смену должно было прийти коммунистическое общество.
Однако если капиталистический строй Маркс подверг подробному исследованию, то описания трех докапиталистических формаций у него отрывочны. Составить представление о его взглядах на внутреннее устройство традиционных обществ на основе напечатанных им при жизни работ достаточно трудно. Несколько больше информации об этом можно почерпнуть из опубликованных позднее черновых рукописей Маркса, а также его писем Ф. Энгельсу. Но здесь нужно учитывать, что речь идет о сугубо рабочих материалах, где фиксировалось не окончательно сформулированное мнение, а гипотезы, и писалось это для себя, без оглядки на удобство для широкого круга читателей.
На тему докапиталистических обществ в 1870–1880-е гг. достаточно много писал Энгельс. Но предложенные им подходы не во всем совпадают с более ранними выкладками Маркса (это, в частности, вызвало в свое время большую дискуссию по поводу того, отказался ли Энгельс в своей книге «Происхождение семьи, частной собственности и государства» (1884) от включения азиатского способа производства в периодизацию мировой истории).
В итоге многие важные звенья в теорию докапиталистических формаций вставлялись уже в ХХ в. исследователями-марксистами, определенным образом трактовавшими или додумывавшими идеи основоположника. И тут можно усмотреть некоторые аналогии с тем, как складывалась в науке концепция «мальтузианской ловушки». Во всяком случае многое в Марксовом понимании докапиталистических обществ так и осталось неясным, оживленные дискуссии по спорным моментам шли между специалистами до самого конца советского времени.
В первом приближении, вроде бы, и на докапиталистические формации Марксом распространялись общие принципы диалектического взаимодействия производительных сил и производственных отношений, базиса и надстройки. В восходящей фазе формации производственные отношения создают стимулы для прогресса производительных сил, и общество идет вперед. Но само технологическое развитие со временем подводит к необходимости изменения институтов. Существующие производственные отношения начинают тормозить дальнейшие поступательные сдвиги в производительных силах. Конфликт разрешается через социальную революцию, в ходе которой меняются как экономический базис, так и политико-правовая и идеологическая надстройка.
Понятно, что такое понимание хода истории призвано было показать неизбежность будущего крушения капитализма, а то, как капитализм посредством буржуазных революций взял верх над Средневековьем, служило эмпирической иллюстрацией выведенного Марксом алгоритма. Гораздо сложнее, однако, задействовать эту логику применительно к тому, как функционировали и приходили друг другу на смену докапиталистические способы производства.
Что касается капитализма, то исходной точкой исследования Маркса было товарное производство, а уж из него Маркс выводил отношения эксплуатации – присвоение капиталистами созданной трудом рабочих прибавочной стоимости. В описании же социально-экономических структур азиатского, античного и феодального способов производства он отталкивался от того или иного типа земледельческой общины12.
В случае с азиатским способом производства имелась в виду соседская община, где пахотные участки уже поделены между крестьянскими семьями, но не являются частной собственностью, они периодически переделяются заново. Ремесло и земледелие сосуществуют внутри общины, поэтому она самодостаточна, натурально замкнута. Обмен продуктами ремесленной и аграрной деятельности лишь в незначительной степени способствует развитию товарно-денежных отношений.
Такие общины сплачивает в единое целое государство деспотического типа. Номинально в его собственности находится вся земля, но в действительности отношения земельной собственности весьма сложны: на один и тот же участок имеют права и государство в целом в лице монарха; и региональные администраторы и армейские офицеры, получающие земельные пожалования от государства; и община; и отдельный крестьянин. Тогда как институт частной собственности неразвит, иногда Маркс вообще отрицал существование частной земельной собственности при азиатском способе производства.
Отсюда специфика социального неравенства, свойственная этому общественному устройству: эксплуататорами, тем слоем, который присваивает себе долю урожая, собранного крестьянами, выступают не частные собственники, а представители государственного аппарата. Иными словами, государственная земельная собственность реализуется через особый механизм изъятия прибавочного продукта, в рамках которого совпадают земельная рента и налог. В то же время азиатскому способу производства присуще сохранение значительной роли коллективного труда, причем не только внутри общин, но и на макроуровне. Наиболее наглядное подтверждение тому – масштабное ирригационное строительство, которое осуществлялось благодаря мобилизации государством огромных масс крестьян на общественные работы.
По контексту высказываний Маркса трудно понять, имел ли он в виду под азиатским способом производства универсальную стадию развития или же им подразумевался особый путь развития именно Востока. Впрочем, если учесть гегельянский бэкграунд Маркса, то эти два варианта не выглядят взаимоисключающими: общее, согласно принципам диалектической логики, существует не только через множество проявлений особенного, но и наряду с ними.
Другое дело, что поскольку феномены, присущие азиатскому способу производства, Маркс усматривал и на древнем, и на средневековом Востоке, то не вполне понятно, как применить ко всему этому аналитические категории «производительные силы», «производственные отношения» и «социальная революция». Ведь если с какого-то момента институты азиатского способа производства стали тормозить развитие технологического базиса экономики, то почему тогда не случилась социальная революция, а вместо этого Восток оказался в буквально тысячелетней стагнации?
Этот вопрос тем более уместен потому, что существование более прогрессивного, чем азиатский, рабовладельческого (античного) способа производства Маркс тоже связывал с определенным географическим ареалом – греко-римским. Он нигде не пояснил, как именно произошел предполагаемый революционный сдвиг от азиатской формации к античной. Да, собственно говоря, в те годы, когда жил Маркс, для таких обобщений и не было фактологического материала. О крито-микенской культуре, действительно очень похожей на древневосточные, тогда еще ничего не было известно. Может быть, сейчас задним числом тот долгий путь, который древнегреческое общество прошло от гибели Микен до формирования классической античной системы, и можно уподобить социальной революции. Но Маркс просто исходил из того, что в Греции и Риме сложился иной тип земледельческой общины, нежели на Востоке, а именно: община-полис.
Отличие ее от азиатской общины уже в том, что полис – это город. Однако живут в нем не только ремесленники, торговцы и управленцы, но и крестьяне – за городскими стенами они находят защиту от военных нападений. Обрабатываемые земельные участки в прилежащей к городу местности принадлежат крестьянам на правах частной собственности. Но принципиальное условие обладания земельным наделом – это принадлежность к общине, статус свободного гражданина. И напротив, каждый гражданин в обязательном порядке наделялся земельным участком, это считалось гарантией его экономической независимости, а значит, и способности принимать самостоятельные, осмысленные политические решения. Для наделения землей новых граждан в полисе существовала общественная, государственная собственность.
В основе полисной системы лежал, таким образом, баланс частной и государственной собственности, но он был смещен в сторону собственности частной. Связанное с уже произошедшим отделением ремесла от земледелия развитие денежных отношений задавало новые импульсы к приватизации земли, ее рыночному перераспределению. Полису было свойственно демократическое политическое устройство. Но имела место не система представительных органов, а прямое народоправство. Члены народного собрания составляли народное ополчение, а профессиональной армии в полисе не было.
Но о том, почему в условиях полисной системы мобилизация дополнительной рабочей силы в расширявшиеся хозяйства происходила именно как использование труда рабов, Маркс писал лишь в самой общей форме. По существу он лишь выделил два возможных варианта порабощения человека: попадание в плен и продажу за неуплату долга.
Венгерский марксист Ф. Текеи обосновал причинно-следственную связь между полисом и рабовладением методом «от противного». Если предположить, что в полисе дополнительная рабочая сила привлекалась бы через свободный найм или сдачу земли в аренду, то это означало бы: внутри полиса возник слой полноправных свободных граждан, не выполняющих функции частных земельных собственников, а это недопустимо с точки зрения самих основ античной формы собственности. А если бы практиковались крепостнические отношения, то это означало бы появление слоя собственников, которые не являются свободными гражданами (крепостной выступает как совладелец общинной земли; ему принадлежат участок, прилежащий к дому, орудия труда и т.д.). Но это тоже противоречит сущности полиса. Наличие же рабов не нарушает сложный внутриполисный баланс, так как раб не является ни гражданином, ни собственником, он сам – объект присвоения [Текеи 1975].
Причем в период классической античности, когда рабовладение достигло наибольшего развития, имело место исключительно военное рабство. Порабощение граждан за долги было запрещено в Афинах реформами Солона (VI в. до н.э.), а в Риме – реформой Петелия (IV в. до н.э.). Впрочем, в течение достаточно продолжительного времени приток военнопленных был практически непрерывным. Оттолкнувшись от идеи Маркса о воинственной природе полиса, Р.М. Нуреев показал, что внешняя агрессия – это естественное следствие саморазвития полисной структуры.
По его мысли, античная форма собственности с ее относительно равномерным наделением граждан землей и политическое равенство членов общины не отменяли имущественную дифференциацию. А после того, как она перестала воплощаться в долговом рабстве, «внутреннее противоречие между богатыми и бедными, между крупными и мелкими землевладельцами, между рабовладельцами и городской беднотой должно было решаться за счет третьих лиц, было вынесено за пределы данного полиса» [Нуреев 1979. С. 41]. Во время войны внутренние социальные противоречия уходили на задний план, и при этом успешная война увеличивала доступные полису трудовые ресурсы в наиболее подходившей ему социально-экономической форме.
Однако эти же самые обстоятельства делают полисную рабовладельческую систему неустойчивой и нежизнеспособной в долгосрочной перспективе. Советский историк античности С.Л. Утченко по нескольким логическим линиям проследил, как развитие тенденций, заложенных в римской полисной структуре, привело ее к гибели.
Уже после покорения Италии и наделения римским гражданством всех ее свободных жителей перестает соблюдаться принцип обеспечения землей каждого гражданина. Невозможным становится и участие всех граждан в функционировании народного собрания.
Тяга к захвату все новых территорий и рабов подталкивает к дальнейшим завоеваниям, но раздачи земель в присоединенных странах ведут к концентрации собственности, к резкому усилению имущественного неравенства внутри самого римского полиса. Конкуренция с урожаем, собираемым в крупных рабовладельческих латифундиях, и с дешевым импортом продовольствия из провинций подрывает экономические позиции собственно римского и итальянского крестьянства. Постоянные войны приводят к появлению профессиональной армии, а в результате перестает действовать принцип единства народного собрания и народного ополчения.
В конечном счете подрыв мелкого частного землевладения, основы политической демократии, ведет к трансформации политического режима: на место республики приходит империя, как олигархический режим господства земельной аристократии. Система входит в состояние кризиса по мере того, как выдыхается ее территориальная экспансия и усыхают потоки новых рабов. Непосредственно государство гибнет под ударами воинственных соседей. Но еще в последние века существования Римской империи ареал рабовладения сокращался в пользу новых форм трудовых отношений, таких как пекулиум (предоставление рабам возможностей иметь семью и определенное имущество) и колонат (превращение в зависимых ранее свободных земледельцев) [Утченко 1977].
Обычно в этих феноменах и усматривают ростки очередного по порядку в марксистской периодизации феодального способа производства. Но если и соглашаться с такой постановкой вопроса, то все равно как-то не получается углядеть в переходе от античности к Средним векам социальную революцию. Отдельная проблема – можно ли считать развитие полисной рабовладельческой системы и ее последующую гибель примером того, как производственные отношения сначала способствовали развитию производительных сил, а затем стали его угнетать. Вообще-то больше это похоже на цикл «зарождение – расцвет – упадок – гибель», о котором обычно пишут сторонники теории региональных цивилизаций.
Во всяком случае и сам Маркс видел истоки феодализма не в трансформации позднеантичных структур, а в эволюции еще одного, третьего, типа земледельческой общины – того, который был присущ древним германцам и который они воспроизводили на доставшихся им территориях Римской империи. Иначе говоря, генезис и феодального строя тоже связывался Марксом с определенным регионом.
В отличие от полиса и подобно азиатской общине, германская община – не городская, а сельская. Сходство ее с азиатской общиной заключается и в глубокой натуральности. Но если в условиях азиатского способа производства ремесленная деятельность все же часто становилась сферой специализации отдельных общинников, то в германской общине ремеслом занимаются внутри семейных хозяйств. Главное же отличие от азиатской общины – это то, что земельные участки семей, входящих в германскую общину, находятся в их частной собственности.
В коллективной собственности остаются только пастбища, угодья для охоты и лесозаготовок и т.д. Почти не практикуются общественные, коллективные работы. Члены общины не живут одной деревней, они рассредоточены по значительной территории и собираются вместе только для решения вопросов, насущных для них всех. Таким образом, если при азиатском способе производства доминировала квазигосударственная собственность на землю, а в античной общине имел место сложный баланс частной и общественной собственности, то германская община – это объединение частных земельных собственников. Уже это, по мысли Маркса, выступает как причина формирования в раннесредневековом обществе имущественного и статусного неравенства.
Но главным источником социальной стратификации при складывающемся феодализме становится особая военно-политическая структура, в рамках которой государство раздает земли на условии несения службы профессиональным воинам-рыцарям. По отношению к крестьянам такие представители военной элиты выступают как гаранты безопасности. Крестьяне в ответ обязуются выполнять повинности и служить именно данному господину. Так появляется на свет институт крепостничества.
Формируется симбиоз земельной собственности феодалов и зависимых от них крестьян. Именно крупные частные собственники-феодалы являются получателями земельной ренты (отработочной, продуктовой или денежной). Передача административных полномочий и земельных ресурсов на нижние уровни системы государственного управления ведет к политической дезинтеграции, к состоянию, которое принято называть «феодальной раздробленностью».
Такова типология докапиталистических обществ в «настоящем» марксизме. Отличие ее от вульгарной «пятичленной схемы» не только в существовании еще одного звена в виде азиатского способа производства. Хотя и оно уже само по себе побуждает усомниться в том, что Маркс усматривал в истории всех регионов мира единообразную последовательность пофазного движения. И тем более нельзя, оставаясь в системе координат самого Маркса, реально имевшую место последовательность объяснять тем, что, мол, на выходе из первобытности ввиду общей нецивилизованности общества возникает рабовладение как самая грубая, примитивная, основанная на прямом насилии форма эксплуатации, а затем, с прогрессом производительных сил, нравы постепенно смягчаются. В основе периодизации традиционных обществ у Маркса лежит градация типов земледельческой общины, а вот им соответствует та или иная форма изъятия прибавочного продукта.
Вопрос о переходах от одной докапиталистической формации к другой по большому счету так и остался в марксизме непроясненным. Но Маркс, судя по всему, и не имел в виду, что прогресс в мировой истории заключается в последовательном движении каждой страны от одной универсальной стадии развития к другой. Он расставил докапиталистические формации именно в такой, а не иной последовательности, исходя из того, что движение от азиатского способа производства к феодализму означало постепенное высвобождение людей, благодаря прогрессу технологий, от зависимости от естественной среды обитания и жесткого подчинения коллективу.
Такое поступательное движение связывалось им с поэтапным формированием института частной собственности. При капитализме, по мысли Маркса, этот процесс завершается возникновением комбинации личной свободы работника, с одной стороны, и экономического принуждения его к труду – с другой, а в дальнейшем, с переходом к коммунизму, общество должно быть освобождено и от ограничений, связанных с частной формой присвоения.
Иными словами, докапиталистические формации у Маркса – это ступени прогрессивного развития всего человечества, а не какой-то одной страны. Они возникают изначально как уникальные региональные цивилизации, а в дальнейшем они могут втягивать в орбиту своего влияния другие страны и регионы. Но это не обязательные этапы, которые должно пройти каждое общество. В отдельных странах последовательность эволюции может быть разной, а потому и об универсальных механизмах перехода от одного докапиталистического способа производства к другому Маркс предпочитал не распространяться.
Но насколько эта интеллектуальная, творческая версия марксизма согласуется с тем, что знают о прошлом современные экономические историки? Сразу обращают на себя внимание две нестыковки, касающиеся супердолгосрочных трендов.
Во-первых, рассчитанные Э. Мэддисоном показатели подушевого ВВП в мире за 1–1800 гг., конечно, демонстрируют некоторый рост, но по сравнению с тем, что происходило в XIX–XX вв., он настолько скромен, что больше походит на стагнацию. И при этом, вопреки базовой гипотезе Маркса о неуклонном прогрессивном развитии, переходах от низших стадий к высшим, данные за I–XVIII вв. показывают колебательные движения. Тенденция увеличения подушевого ВВП во многих странах и регионах надолго сменялась тенденцией его сокращения.
Можно, правда, предположить, что это и есть проявление закономерности, согласно которой производственные отношения то способствуют развитию производительных сил, то ему препятствуют. Но и тут концы с концами не сходятся. Скажем, в странах Западной Европы на протяжении I тыс. н. э. подушевой ВВП или сокращался, или стагнировал, а ведь в то время, по логике марксистского подхода, только сформировавшийся феодальный строй должен был оказывать благотворное воздействие на развитие технологий.
Во-вторых, и цифры, и факты не подтверждают тот тезис, что экономическое лидерство Европы (Запада) как консолидировалось еще в античную, рабовладельческую эпоху, так и оставалось потом незыблемым и именно в этом регионе происходили переходы к более продвинутым формациям (феодализму, а затем капитализму). Тогда как Восток остался в азиатском способе производства, был подвержен циклическим колебаниям между политическим централизмом и дезинтеграцией государства, переживал многовековую экономическую стагнацию, из которой сам выбраться не смог.
На самом деле подушевой ВВП в Китае и Индии был выше, чем в европейских странах, и в 1, и в 1000 гг. О технологическом лидерстве Китая свидетельствует изобретение там в течение I тыс. н. э. бумаги, пороха, компаса, передовых на то время сельскохозяйственных, металлургических, медицинских и других технологий.
А.М. Петров показал, что и в древности, и в Средние века у Европы был дефицит в торговле с восточными странами. Ввозя с Востока изделия протопромышленности и пряности, Европа могла предложить в ответ только такие товары, как лес и железо, а потому она и не могла уравновесить торговый баланс [Петров 1986]. Выход Запада на лидирующие позиции и по подушевому доходу, и по уровню технологий Э. Мэддисон и многие другие исследователи относят лишь к XVI в., а К. Померанц и другие представители «калифорнийской школы» утверждают, что даже и в XVIII в. Восток вовсе еще не выглядел отсталым.
Под сомнение могут быть, таким образом, поставлены и сами базовые принципы марксовой периодизации, и неявно присутствующий в ней европоцентризм. Но аналитические затруднения возникают и с характеристиками более дробных исторических эпох в рамках «эталонного» европейского варианта, т.е. с теми самыми формациями. Даже если смириться с тем, что переходы от одной докапиталистической формации к другой невозможно изобразить как социальные революции, то все равно каждый последующий способ производства должен быть по уровню производительных сил выше, чем предыдущий, иначе это будет уже не марксизм. Но и так тоже не выходит.
Не получается связать возникновение античной цивилизации с более высоким, чем на Востоке, уровнем технологий. Современные историки констатируют, что определенный технологический скачок в Древней Греции действительно имел место: железный век начался там на рубеже II–I тыс. до н. э. – примерно на пятьсот лет раньше, чем в Китае. Специализация на изготовлении железных орудий труда как раз и простимулировала общее отделение ремесла от земледелия, развитие на этой основе товарно-денежных отношений и приватизацию земли. Но периоду существования полиса и классического рабовладения была свойственна технологическая стагнация [Зарин 1991; Мокир 2014].
И это, в общем-то, логично: технический прогресс угас, так как использование дешевого рабского труда не стимулировало замещение труда капиталом. А действительно прорывные инновации, благодаря которым античные общества брали верх над восточными соперниками, — это институциональные новинки (гражданское общество, демократия, сравнительно защищенные права частной собственности) и связанная с ними особая организация военного дела. Иными словами, можно утверждать, что конкурентные преимущества античности лежали преимущественно в неэкономической плоскости. Вряд ли можно доказать, что их породили более совершенные, чем на Востоке, производительные силы.
Марксистская традиция верно объясняет, как происходил подрыв полисной структуры в Афинах и Риме. Но современная историко-экономическая наука идет дальше и утверждает, что в свои поздние века (с переходом от принципата к доминату) Римская империя уже мало чем отличалась от восточных деспотий, это тоже было социально-политическое устройство, основанное на редистрибуции рентных доходов через государственные фискальные каналы [Гайдар 2005; Зарин 1991]. А тогда само существование Римской империи, по-видимому, следует трактовать не столько как подтверждение более высокого уровня античной цивилизации по сравнению с восточными (наличия у нее своего рода потенциала сверхдержавности), сколько как просто попытку объединить Европу и непосредственно прилегающие к ней территории – попытку, достаточно быстро потерпевшую неудачу. В таком случае распад империи выглядит не как системный, межформационный рубеж, переход к более высокому типу общественного устройства, а как аналог циклического кризиса восточных государств.
Если Римская империя – это редистрибутивная структура, то вполне закономерно ее дробление на отдельные ячейки, соответствующие уровням управленческой вертикали. Е.Т. Гайдар именно это и называет «феодализмом» [Гайдар 2005], а Л.С. Васильев определяет это как политическую «феодализацию», которая может иметь место и при азиатском способе производства и которую нужно отличать от «феодализма» как социально-экономического строя [Васильев 1998]. Но получается-то, что и в Европе истоки этого процесса были вполне себе восточные! Само его начало не приходится считать показателем того, что в раннее Средневековье в Европе был достигнут новый, более высокий уровень развития, это всего лишь определенная фаза той же циклической динамики, что имела место и на Востоке.
Что же касается возникших в позднеримскую эпоху новых форм трудовых отношений, то их вряд ли нужно рассматривать как однородные, однопорядковые явления. Появление пекулиума – это прямое следствие подрыва полисной системы, с одной стороны, и усыхания притока новых рабов – с другой. А именно: если военное рабство практиковалось потому, что такой способ мобилизации трудовых ресурсов диктовался внутренним устройством полиса, то вполне логично, что когда полисная система сдержек и противовесов разрушается, то на первый план выходит низкая экономическая эффективность рабовладения. Начинаются эксперименты по предоставлению рабам определенных материальных стимулов к труду, тем более что рабов становится все меньше.
Колонат же можно трактовать как следствие необходимости удерживать плательщиков налогов и частновладельческой ренты на определенных территориях в условиях общего уменьшения запаса трудовых ресурсов из-за сокращения притока рабов, с одной стороны, и убыли населения в условиях военно-политической нестабильности, постоянных нашествий варварских племен – с другой. Ведь по этим причинам высвобождалось все больше земель и увеличивались возможности миграции, ухода с ее помощью от рентных обязательств.
Итак, античная цивилизация – это действительно «социальная мутация» [Васильев 1998] или «аномалия» [Гайдар 2005] на фоне основного массива редистрибутивных обществ, и она действительно привнесла в историю человечества много нового. Однако в конечном счете в результате подрыва полисной структуры эта аномалия была поглощена основным массивом. Римская империя выросла из особой, полисной социальной организации, но стала обычной деспотией.
Получается, что не только переход от азиатского способа производства к рабовладению, но и, тем более, переход от античности к Средним векам нельзя объяснить в системе координат «производительные силы – производственные отношения», связать с достижением более высоких технологических уровней. В действительности распад античной цивилизации привел к длительному (не менее половины тысячелетия) технологическому регрессу, превращению Европы в сырьевую и аграрную периферию Евразии [Зарин 1991; Мельянцев 1996].
Но тогда возникает и следующий крамольный вопрос. Если динамика эволюции Римской империи, а вслед за ней и франкской империи Каролингов подчинялась примерно тем же закономерностям, что действовали в восточных деспотиях, то имеет ли смысл настаивать на разграничении азиатского способа производства и феодализма? Специфику последнего обычно усматривают в следующих моментах.
Во-первых, в политической раздробленности – в отличие от централизма восточных деспотий. Но, пожалуй, ничто, кроме стереотипов, не помешает констатировать, что централизованные редистрибутивные империи существовали и на Западе (Рим, государство франков), а восточные деспотии периодически дробились на автономные образования и распадались. Централизация и дезинтеграция предстают просто как звенья присущих редистрибутивным обществам циклических колебаний.
Во-вторых, считается, что феодализм, в отличие от азиатского способа производства, — это система, основанная на частной собственности. Но надо учитывать, что главным источником ее формирования была раздача государственных земель служилой знати (управленцам и военным). Она имела место и на Западе, и на Востоке, так же, как и приватизация земли в крестьянских общинах ввиду обособления друг от друга семейных хозяйств.
В-третьих, предполагается, что родовая черта европейского феодализма – это крепостничество. Но на самом деле оно время от времени возникало и на Востоке, если в наличии были свободные земли, куда могли уйти крестьяне — плательщики ренты. А когда земля являлась дефицитным ресурсом, то редистрибутивная экономика могла существовать и без крепостничества13. Одно из проявлений системной схожести средневековых обществ Востока и Запада – это перекрещивающиеся права государства, элитных групп и крестьян-общинников на одну и ту же землю. Такие неспецифицированные права собственности могут существовать и с крепостничеством, и без него.
Выходит, что и Восток, и Запад на протяжении большей части доиндустриальной истории существовали по в общем-то единообразным законам редистрибутивного общества. Централизация и феодализация – это просто звенья его циклической динамики. «Античная аномалия» на какое-то время увела Запад в другом направлении, но она просуществовала не очень долго. Определенное наследие, придававшее институциональную специфику Европе, она, разумеется, оставила, но в целом западные общества Средних веков были все же типологически сходными с восточными.
Своеобразие средневековой Европы – это не феодализация как таковая, а особая неустойчивость централизованных империй, их быстрый распад. В современной литературе это обычно объясняют, адресуясь к наличию множества рек, отсутствию зависимости сельского хозяйства от единой оросительной системы, удаленности от мест дислокации кочевников, традициям римского права, автономии церкви и т.д. [Гайдар 2005; Зарин 1991; Мельянцев 1996; Сhirot 1985].
Для человека, воспитывавшегося на «пятичленной схеме» и не подозревавшего о ее отличиях от собственно марксизма, первый шаг к «освобождению от морока» — это признание того, что «пятичленка» просто не применима к истории как Востока, так и доантичной Европы. Наличие в «настоящем» марксизме концепции азиатского способа производства, вроде бы, снимает эту коллизию, поэтому-то данная концепция и была столь популярна у марксистских интеллектуалов. Но при более тщательном рассмотрении выявляются все новые неувязки, и они побуждают сделать второй шаг: признать принципиальную однородность Востока и Запада и в доантичный период, и в Средние века, т.е. по сути констатировать, что средневековая Европа – это тоже «Восток».
Другое дело, что с определенного времени в Западной Европе стала вызревать новая «социальная мутация» – возникновение капитализма. В марксизме оно трактуется как классический случай социальной революции, которая происходит из-за возникшего несоответствия между ушедшими вперед производительными силами и отсталыми производственными отношениями.
Предполагается, что следствием появления новых ремесленных технологий стало оживление городского сектора западноевропейских экономик. В развивавшийся на этой основе товарно-денежный обмен втягивалась и деревня. Производственные возможности крестьянских хозяйств тоже возросли благодаря освоению более совершенных севооборотов. Ища коммерческой выгоды, феодалы предпочитали переводить крестьян с барщины на натуральный, а затем и денежный оброк. Конечным результатом этих процессов стало освобождение крестьян и от крепостной зависимости, и от контроля со стороны общины. Тем самым были созданы предпосылки для возникновения класса лично свободных наемных работников.
Однако для того чтобы этот процесс совершился, нужно было окончательное отделение крестьян от собственности на землю и орудия труда. Оно произошло отчасти благодаря конкуренции между самими крестьянскими хозяйствами, которая стимулировала дальнейшее повышение производительности, но вела к разорению и вытеснению из сельского хозяйства многих производителей, а отчасти – из-за того, что в поиске новых источников дохода традиционные дворянские элиты просто отбирали землю у крестьян. Таким образом, становление капитализма в национальной экономике, по Марксу, начинается с переворота в аграрных отношениях. Избыточные трудовые ресурсы, ждущие применения в промышленности, согласно марксизму, – это не атрибут традиционной экономики, существовавший тысячелетиями, а продукт социальной дифференциации, связанной с развитием именно капиталистических отношений.
В свою очередь, городской торговый капитал искал новых выгодных сфер применения, он непосредственно подчинял себе ремесленные производства. Имущественная дифференциация среди ремесленников превращала одну часть из них в предпринимателей, другую – в наемных работников. Прежние цеховые ограничения мешали реализации сублимированного производственного потенциала, они отменялись, что давало выход игре конкурентных сил. Под их влиянием происходили дальнейшие сдвиги в промышленной организации (возникла мануфактура), складывался спрос на механизированные технологии. В конечном счете это и привело к Промышленной революции, формированию фабричной системы, в которой находили себе применение работники, мигрировавшие из деревни в город. А борьба предпринимателей с традиционными феодальными элитами за политическую власть приняла форму буржуазных революций.
Все как будто логично. Но у человека, снабженного набором знаний, которым располагает историко-экономическая наука в XXI в., неизбежно возникает вопрос: «А были ли эти процессы аграрного переворота, развития ремесла и мануфактуры исторически уникальными, проявившимися в Англии и некоторых других западноевропейских странах только начиная с XVI в.?». Ведь в действительности и в предшествующей истории многих стран с циклической периодичностью происходили образование широкого слоя безземельных сельских жителей, развитие рыночных отношений, накопление капиталов, прогресс протопромышленности и т.д. Почему же тогда это не приводило к становлению капитализма как системы?
Сам Маркс отвечал на этот вопрос в том духе, что докапиталистические формы социальной организации тогда еще не исчерпали себя, не произошло отделения массы работников от естественных условий существования и принадлежности к общинному коллективу, т.е. в конечном счете уровень производительных сил был еще недостаточно высоким14. Но трудно не признать такие доводы несколько тавтологичными. Между тем современные трактовки, признающие саму проблематику дисбалансов между запасами земельных и трудовых ресурсов, поднятую Мальтусом, по крайней мере объясняют, почему общества, вроде бы, уже зашедшие достаточно далеко по пути развития интенсивного земледелия, протопромышленности и рыночного хозяйства, отбрасывались назад тяжелыми социально-экологическими кризисами.
На самом деле ощущение некой недосказанности по поводу генезиса капитализма неизбежно возникает у любого внимательного читателя первого тома «Капитала». Обычно считается, что в основу методологии «Капитала» положен принцип единства исторического и логического, т.е. эта книга описывает и функционирование сложившейся капиталистической системы, и процесс ее формирования. Но тогда неясно, почему если товарное производство породило деньги еще в глубокой древности, а деньги имеют имманентную склонность к самовозрастанию, то реализовываться это стремление в результате продажи пролетарием капиталисту своей рабочей силы стало только в Новое время.
Формально объяснение у Маркса есть. В конец первого тома «Капитала» им была помещена специальная ХХIV глава о становлении капиталистического способа производства. Там сущность «первоначального накопления капитала» трактуется как произошедшая в позднее Средневековье экспроприация мелких крестьянских хозяйств, в том числе и насильственными методами. В результате ее потерявшие землю крестьяне, да и часть ремесленников были буквально вытолкнуты на рынок труда. Но опять-таки современная историко-экономическая наука свидетельствует, что и до этого было немало эпох, когда имелись в наличии и капитал, и масса незанятых в аграрном или ремесленном производстве людей, но заканчивалось это не становлением индустриального капитализма, а возвращением к преимущественно натуральной редистрибутивной экономике.
Обращает на себя внимание и то, как часто и Маркс, и Энгельс в трактовке генезиса капитализма ссылались на «разложение экономической структуры феодального общества» [Маркс 1983. С. 727; Энгельс 1986. С. 190, 253]. Основоположники марксизма многократно отвергали упреки в том, что они из общетеоретических постулатов (в частности, законов диалектики) делают конкретные практические выводы. Они утверждали, что, напротив, их разработки по частным вопросам служат иллюстрацией, подтверждением общих законов. Но в данном случае волей-неволей создается ощущение, что истолкование ими капиталистического генезиса базируется просто на заранее предполагаемой типологии формаций: то, что в марксизме называется «феодализмом», согласно диалектическим законам должно было рано или поздно перестать существовать, а коль скоро следом за ним идет капитализм, то его появление можно представить как «отрицание» феодальных институтов.
Более выигрышной на таком фоне выглядит трактовка поворота от стагнации к СЭР не как исторической неизбежности, а как следствия уникального совпадения в определенном регионе многих благоприятных условий. Главное из них – это не принципиально новый уровень технологий, а сложившаяся в Западной Европе плюралистичная социально-политическая структура. Она в конечном счете и дала выход позитивному потенциалу рыночных отношений, ранее подавлявшемуся редистрибутивными структурами. Капитализм и СЭР, согласно такому пониманию, появляются на свет в результате сложного взаимодействия экономических, политических, социокультурных и даже географических факторов, а не просто по логике последовательной смены фаз экономического развития. В дальнейшем эти новые феномены распространяются по миру через механизмы позитивных экстерналий [Зарин 1991; Лукас 2013; Chirot 1985].
Тогда о докапиталистических временах имеет смысл говорить как о едином массиве «традиционных обществ». В его рамках нет сквозной линии прогрессивного развития, тем более – основанной на логике взаимодействия производительных сил и производственных отношений15. «Традиционное общество» — это, скорее, лабиринт, в котором есть и боковые двери, и тупики, в нем возможны самые разные конкретные сочетания институтов. В конечном счете выход из лабиринта был найден человечеством только после длительных поисков.
Концепция «мальтузианской ловушки» – это и есть экономическая констатация существования такого лабиринта. И если эта концепция пока аморфна и несовершенна, то отсюда следует лишь, что ее нужно разрабатывать дальше, а не отвергать как изначально порочную.
***
Благодаря усилиям многих специалистов в науке постепенно складывается новое понимание закономерностей, которые были присущи традиционному, доиндустриальному обществу. Судя по тому, что мы знаем теперь, период существования аграрной цивилизации, занявший несколько тысячелетий, не представляется возможным разделить на несколько следовавших одна за другой, качественно разнородных, но при этом универсальных для большинства стран мира стадий поступательного развития. Это так не только потому, что экономический рост в доиндустриальную эпоху был вообще очень медленным, но и потому, что страны, вроде бы уже ставшие на путь прогресса, преуспевшие в создании протопромышленности и рыночных институтов, раз за разом отбрасывались назад тяжелыми социально-экологическими кризисами.
Такой механизм относительной стагнации стало принято называть «мальтузианской ловушкой», хотя не приходится говорить, что именно Т. Мальтус дал его исчерпывающее описание и истолкование. Заставший только ранние этапы английской Промышленной революции, Мальтус не считал, что он является свидетелем принципиальных изменений в законах функционирования общества. Он полагал, что описанные им дисбалансы земельных и трудовых ресурсов существовали и будут существовать всегда. Сейчас же очевидно, что предложенное им понимание экономических и демографических тенденций релевантно именно в применении к традиционным, сельскохозяйственным социумам. В таком качестве гипотезы Мальтуса востребованы современной наукой.
Клиометрические исследования в целом подтверждают, что в доиндустриальном прошлом повышения подушевого дохода, вызванные технологическим прогрессом или задействованием дополнительных земельных площадей, могли обесцениваться приростом населения. Хотя выглядело это, скорее, не как схождение уровня жизни к минимуму физического существования, а как сложный поиск нового равновесия, на результат которого влияли многие факторы, в том числе описанные Мальтусом «естественные препятствия» и «превентивные меры».
В современных моделях «мальтузианской ловушки» постепенно усиливается институциональная составляющая. Складывается понимание мальтузианского общества как редистрибутивного, т.е. основанного на изъятии и перераспределении земельной ренты вертикальными социальными структурами. Конфликты между отдельными стратами мальтузианского общества рассматриваются как неотъемлемая составляющая присущей ему социально-экономической динамики.
Учет в моделях процессов протоиндустриализации и маркетизации тем более дает возможность уточнить важные нюансы мальтузианского «династийного» цикла. Если сосредоточение основной массы трудовых ресурсов в аграрном секторе с присущей ему убывающей предельной производительностью позволяет понять, почему мальтузианский экономический рост был медленным и неустойчивым, то нарушения баланса между земельными и трудовыми ресурсами и связанные с этим конфликты между управленческими элитами и крестьянством объясняют периодические погружения общества в состояние смуты, войны всех против всех. А констатация повторяющихся «протопромышленных тупиков» уточняет картину социально-экологического кризиса; показывает более конкретные причины циклического регресса, срывов движения к отраслевой и институциональной диверсификации экономики.
На первый взгляд, концепция «мальтузианской ловушки» и предложенное К. Марксом материалистическое понимание истории несовместимы. Дело не только в различиях периодизации, но и в ценностных основаниях. Мальтус воспринимал общество как объект Божьего промысла. Маркс же верил в способность людей менять мир революционным путем. Исследуя прошлое, он искал в нем подтверждения своих мыслей о будущем. Не стоит, однако, забывать, что концепция «мальтузианской ловушки» появилась на свет много десятилетий спустя после смерти Мальтуса, а «пятичленная схема» формаций имеет к Марксу лишь косвенное отношение. Если на сегодняшний день разграничение «мальтузианской ловушки» и эпохи СЭР выглядит как более реалистичное, то отсюда не следует, что из марксистской концепции нельзя взять наиболее удачные, рафинированные элементы и имплантировать их в более современную теорию.
Прежде всего это относится к марксистской трактовке античной рабовладельческой цивилизации как общественного устройства, в течение какого-то времени представлявшего собой альтернативу редистрибутивным, «восточным» структурам и отчасти определившего дальнейший исторический путь Европы. Но и предложенные Марксом модели азиатского способа производства и феодализма содержат в себе много полезных наработок. Пусть само разграничение этих стадий развития с позиций сегодняшнего дня и выглядит спорным, но по сути в обоих случаях освещаются конкретные механизмы функционирования редистрибутивного общества, да еще и в привязке к различным регионам. Можно сказать, что такой детализации пока и не хватает концепции «мальтузианской ловушки». Совмещение ее с отдельными блоками марксистского подхода как раз может придать этой концепции большую институциональную обоснованность и способность объяснять реальную вариативность конкретных страновых моделей традиционного общества.
Библиография
Аджемоглу Д., Робинсон Дж. Почему одни страны богатые, а другие бедные. Происхождение власти, процветания и нищеты. М.: Изд-во АСТ, 2015.
Афанасьев В.С. Этапы развития буржуазной политической экономии: Очерк теории. М.: Экономика, 1988.
Васильев Л.С. История Востока. Т. 1. М.: Высшая школа, 1998.
Гайдар Е.Т. Долгое время. Россия в мире: очерки экономической истории. М.: Дело, 2005.
Де Фрис Я. Революция трудолюбия: потребительское поведение и экономика домохозяйств с 1650 года до наших дней. М.: Дело, 2016.
Зарин В.А. Запад и Восток в мировой истории XIV–XIX вв.: Западные концепции общественного развития и становление мирового рынка. М.: Наука, 1991.
Илюшечкин В.П. Эксплуатация и собственность в сословно-классовых обществах (Опыт системно-структурного исследования). М.: Наука, 1990.
Кембриджская экономическая история Европы Нового и Новейшего времени. Т. 1: 1700–1870. М.: Изд-во Института Гайдара, 2014.
Кларк Г. Прощай, нищета! Краткая экономическая история мира. М.: Изд-во Института Гайдара, 2013.
Кобищанов Ю.М. Теория большой феодальной формации // Вопросы истории. 1992. № 4-5. С. 57-72.
Лукас Р. Лекции по экономическому росту. М.: Изд-во Института Гайдара, 2013.
Мальтус Т. Опыт о законе народонаселения. М.: Наше завтра, 2022.
Маркс К. Капитал. Критика политической экономии. Т. 1. М.: Политиздат, 1983.
Маркс К. Теории прибавочной стоимости (4-й том «Капитала»). Ч. 2. М.: Политиздат, 1978.
Маркс К. Экономические рукописи 1857–1861 гг. (первоначальный вариант «Капитала»). Ч. 1. М.: Политиздат, 1980.
Мельянцев В.А. Восток и Запад во втором тысячелетии: экономика, история и современность. М.: Изд-во МГУ, 1996.
Мокир Дж. Рычаг богатства. Технологическая креативность и экономический прогресс. М.: Изд-во Института Гайдара, 2014.
Мугрузин А.С. Роль природного и демографического факторов в динамике аграрного сектора средневекового Китая (к вопросу о цикличности докапиталистического производства) // Исторические факторы общественного воспроизводства в странах Востока. М.: Наука, 1986. С. 11–44.
Мэддисон Э. Контуры мировой экономики в 1–2030 гг. Очерки по макроэкономической истории. М.: Изд-во Института Гайдара, 2015.
Нефедов С.А. Экономические законы истории // Вопросы экономики. 2012. № 12. С. 118-134.
Нуреев Р.М. Античный полис: краткая политико-экономическая характеристика // Экономическая роль государства в условиях анатагонистических способов производства. М.: Изд-во МГУ, 1979. С. 33–55.
Петров А.М. Внешняя торговля древней и средневековой Азии в отечественном востоковедении (обзор литературы и попытка нового подхода к исследованию проблемы) // Исторические факторы общественного воспроизводства в странах Востока. М.: Наука, 1986. С. 149-183.
Померанц К. Великое расхождение: Китай, Европа и создание современной мировой экономики. М.: Дело, 2017.
Текеи Ф. К теории общественных формаций. М.: Прогресс, 1975.
Утченко С.Л. Политические учения Древнего Рима III–I вв. до н.э. М.: Наука, 1977.
Энгельс Ф. Анти-Дюринг. Переворот в нaуке, произведенный господином Евгением Дюрингом // Маркс К., Энгельс Ф. Избранные сочинения. Т. 5. М.: Политиздат, 1986. С. 1–302.
Azariadis C., Stachurski J. Poverty Traps // Aghion Ph., Durlauf S. (eds.). Handbook of Economic Growth. Vol. 1A. Amsterdam, etc.: Elsevier, 2005. P. 295–384.
Boserup E. The Impact of Population Growth on Agricultural Output // Quarterly Journal of Economics. 1975. Vol. 89. No. 2. P. 257–270.
Bryant J. The West and the Rest Revisited: Debating Capitalist Origins, European Colonialism, and the Advent of Modernity // Canadian Journal of Sociology. 2006. Vol. 31. No. 4. P. 403–444.
Chirot D. The Rise of the West // American Sociological Review. 1985. Vol. 50. No. 2. P. 181–195.
Coleman D. Proto-Industrialization: A Concept Too Many // Economic History Review. 1983. Vol. 36. No. 3. P. 435-448.
Crafts N., Mills T. From Malthus to Solow: How Did the Malthusian Economy Really Evolve? // Journal of Macroeconomics. 2009. Vol. 31. No. 1. P. 68-93.
Elvin M. The Pattern of the Chinese Past. Stanford: Stanford University Press, 1973.
Galor O. From Stagnation to Growth: Unified Growth Theory // Aghion Ph., Durlauf S. (eds.). Handbook of Economic Growth. Vol. 1A. Amsterdam, etc.: Elsevier, 2005. P. 171–293.
Goldstone J. Efflorescences and Economic Growth in World History: Rethinking the “Rise of the West” and the Industrial Revolution // Journal of World History. 2002. Vol. 13. No. 2. P. 323-389.
Kelly M. The Dynamics of Smithian Growth // Quarterly Journal of Economics. 1997. Vol. 112. No. 3. P. 931–964.
Kogel T., Prskawetz A. Agricultural Productivity Growth and Escape from Malthusian Trap // Journal of Economic Growth. 2001. Vol. 6. No. 4. P. 337–357.
Lee R., Anderson M. Malthus in State Space: Macroeconomic-demographic Relations in English History, 1540 to 1870 // Journal of Population Economics. 2002. Vol. 15. No. 2. P. 195-220.
Lewis W.A. Economic Development with Unlimited Supplies of Labour // The Manchester School of Economic and Social Studies. 1954. Vol. 22. No. 2. P. 139–191.
Lueger T. The Principle of Population vs. the Malthusian Trap. A Classical Retrospective and Resuscitation. 2018 // https://ideas.repec.org/p/zbw/darddp/232.html (доступ 12 сентября 2023).
Madsen J., Robertson P., Ye Longfeng. Malthus Was Right: Explaining a Millennium of Stagnation // European Economic Review. 2019. Vol. 118. No. C. P. 56-68.
Mendels F. Proto-industrialization: The First Phase of the Industrialization Process // Journal of Economic History. 1972. Vol. 32. No. 1. P. 241-261.
Mokyr J. Demand vs. Supply in the Industrial Revolution // Journal of Economic History. 1977. Vol. 37. No. 4. P. 981–1008.
Nelson R. A Theory of the Low-level Equilibrium Trap in Underdeveloped Economies // American Economic Review. 1956. Vol. 46. No. 5. P. 894-908.
Polanyi K. The Economy as Instituted Process // Trade and Market in the Early Empires. Economies in History and Theory. Glencoe: Free Press, 1957. P. 243–270.
Polanyi K. The Great Transformation: The Political and Economic Origins of Our Time. Boston: Beacon Press, 1944.
Tisdell C., Svizzero S. The Malthusian Trap and Development in Pre-Industrial Societies: A View Differing from the Standard One. 2015 // https://www.researchgate.net//publication/ (доступ 12 сентября 2023).
Rostow W. The Stages of Economic Growth. A Non-Communist Manifesto. Cambridge (Mass.): Cambridge University Press, 1971.
Voightlander N., Voth H.J. Malthusian Dynamism and the Rise of Europe: Make War, Not Love // American Economic Review: Papers and Proceedings. 2009. Vol. 99. No. 2. P. 248–254.
Voightlander N., Voth H.J. Why England? Demographic Factors, Structural Change and Physical Capital Accumulation during the Industrial Revolution // Journal of Economic Growth. 2006. Vol. 11. No. 4. P. 319–361.
Примечания
11 Вот образец суждений Маркса о Мальтусе: «Для Мальтуса характерна глубокая низость мысли, — низость, которую может себе позволить только поп, который в людской нищете видит наказание за грехопадение и вообще не может обойтись без "земной юдоли скорби", но вместе с тем, имея в виду получаемые им церковные доходы и используя догму о предопределении, находит весьма выгодным "услаждать" господствующим классам пребывание в этой юдоли скорби. …Выводы Мальтуса по научным вопросам сфабрикованы "с оглядкой" на господствующие классы вообще и на реакционные элементы этих господствующих классов в особенности; а это значит: Мальтус фальсифицирует науку в угоду интересам этих классов. Наоборот, его выводы безоглядно-решительны, беспощадны, поскольку дело касается угнетенных классов» [Маркс 1978. С. 122, 125].
12«Рабство, крепостная зависимость и т.д., — писал Маркс, — всегда являются вторичными формами, никогда не первоначальными, несмотря на то что они необходимый и последовательный результат собственности, основанной на общинном строе и на труде в условиях этого строя» [Маркс 1980. С. 491].
13 «В какой степени в аграрных обществах крестьянин закреплен на своем наделе, зависит от обстоятельств, в первую очередь от качества земли, – отмечает Е.Т. Гайдар. – Если это редкий по своим качествам и дефицитный ресурс, нет нужды силой государственной власти закрепощать крестьянина – он сам никуда не денется» [Гайдар 2005. С. 159]. К. Померанц формулирует ту же мысль несколько более витиевато: «Относительно населенная территория – территория, способная обеспечить потребности своего населения, достигшего максимально возможной отметки, без крупных технологических прорывов. Подобные территории вполне могут сталкиваться с перспективой экологических кризисов и представлять собой места, где контролирующие относительно скудные факторы производства (землю, а возможно, и капиталы) элиты могут выказывать меньшую предрасположенность к принудительному использованию трудовых ресурсов» [Померанц 2017. С. 355].
14По-видимому, именно так нужно понимать следующее высказывание Маркса: «…Однако только наличия денежного богатства и даже достижения им в известной мере господства отнюдь не достаточно для того, чтобы произошло это превращение в капитал. В противном случае Древний Рим, Византия и т.д. закончили бы свою историю свободным трудом и капиталом или, вернее, начали бы тем самым новую историю. Там разложение старых отношений собственности тоже было связано с развитием денежного богатства – торговли и т.д. Однако это разложение вместо того, чтобы привести к развитию промышленности, фактически привело к господству деревни над городом» [Маркс 1980. С. 503].
15 В отечественной литературе в позднесоветский период появились концепции, трактовавшие весь массив редистрибутивных аграрных обществ как «единую докапиталистическую формацию». В.П. Илюшечкин разработал теорию «сословно-классового общества», в рамках которого различные типы изъятия прибавочного продукта (земельная аренда, рабство, крепостничество, оброчное невольничество) выступали как однопорядковые, существовавшие параллельно производственные отношения при приблизительно одном и том же уровне производительных сил. Различия между отдельными странами в древности и Средние века, согласно Илюшечкину, заключались в неодинаковых комбинациях этих элементов, с возможным наличием определенного ведущего уклада [Илюшечкин 1990]. Ю.М. Кобищанов предложил концепцию «большой феодальной формации», основанной на доминировании изъятий земельной ренты как государством, так и частными владельцами земли. Даже в античности, по его мнению, рабовладение было всего лишь периферийным укладом в рамках феодальной экономики [Кобищанов 1992]. По сути эти концепции представляли собой попытки не просто уйти от «пятичленной схемы», но и осовременить марксистское видение истории с учетом накопленной за ХХ в. фактологии, избавить его от наиболее очевидных логических нестыковок без отказа от собственно марксистской методологии, в том числе и от преимущественного внимания к распределительным отношениям. Проблематика соотношения факторов производства (земли и трудовых ресурсов), т.е. собственно функционирования традиционной экономики, была при этом в лучшем случае на втором плане.


.jpg)