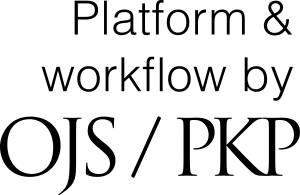Вклад официальной помощи развитию в митигацию политических рисков для прямых иностранных инвестиций: пределы измеримости
[To read the article in English, just switch to the English version of the website.]
Бартенев Владимир Игоревич — ведущий научный сотрудник Института перспективных стратегических исследований НИУ ВШЭ.
SPIN-РИНЦ: 9801-1158
ORCID: 0000-0001-9804-0630
Researcher ID: AAE-4219-2019
Scopus Author ID: 57188561575
Для цитирования: Бартенев В.И. Вклад официальной помощи развитию в митигацию политических рисков для прямых иностранных инвестиций: пределы измеримости // Современная мировая экономика. 2024. Том 2. №4(8). EDN: CNZZYM
Ключевые слова: официальная помощь развитию, содействие международному развитию, политические риски, прямые иностранные инвестиции, статистика
Исследование выполнено за счет гранта Российского научного фонда № 23-28-01060, https://rscf.ru/project/23-28-01060/.
Аннотация
Митигация политических рисков — важное условие для мобилизации капитала частного сектора, на который возлагаются большие надежды в достижении Целей устойчивого развития. Однако вопрос оценивания митигационного эффекта различных финансовых и нефинансовых инструментов пока не проработан ни в концептуальном, ни в техническом плане. Цель статьи — раскрыть проблему измеримости вклада официальной помощи развитию (ОПР) в минимизацию политических рисков для прямых иностранных инвестиций (ПИИ) и спровоцировать научную дискуссию о ключевых ограничениях, осложняющих такое измерение, а также путях их преодоления.
Показано, что частный бизнес и органы государственной власти стран-доноров обоюдно заинтересованы в задействовании ресурсов содействия международному развитию в рамках управления политическими рисками для капиталовложений в развивающиеся страны. Для этих целей могут применяться как традиционные инструменты помощи развитию, так и гарантии, для которых Комитет содействия развитию ОЭСР недавно разрешил рассчитывать грант-эквивалент и отражать его в отчетности по ОПР.
Митигационный эффект традиционных форм помощи развитию теоретически может быть измерен посредством соотнесения данных об объемах финансирования по отдельным релевантным целевым направлениям со значениями соответствующих субкомпонентов наиболее авторитетных рейтингов политических рисков. Однако реализации этой идеи препятствует взаимная обусловленность объясняющей и зависимой переменной: высокий уровень политических рисков в стране-реципиенте изначально ограничивает объемы предоставляемой ей помощи. Кроме того, на оба параметра воздействует множество эндогенных и экзогенных факторов, которые могут быть выражены только через фиктивные переменные.
В случае с гарантийными инструментами просматривается теоретическая возможность оценивания силы как их каталитического эффекта, так и «эффекта ореола», дополнительно защищающего инвестиции от политических рисков «легально-правительственного» происхождения. В первом случае достаточно знать точные условия гарантий, а также объемы мобилизованных с их помощью капиталовложений. Во втором — общее число проектов, поддержанных гарантиями от политических рисков, и количество проектов, где «эффект ореола» не сработал. Однако практическому воплощению этого замысла мешает элементарное отсутствие статистических данных надлежащего качества.
Перечисленные ограничения указывают на важность опоры в разработке заявленной проблематики на применение качественных методов анализа с привлечением максимально широкого круга взаимодополняющих источников разных типов.
Введение
В международном дискурсе последних лет важное место занимает тема привлечения частного сектора к финансированию Целей устойчивого развития (ЦУР). Изначально было ясно, что качественному рывку на этом направлении могут помешать политические риски для прямых иностранных инвестиций (ПИИ): из-за них большая часть капиталовложений традиционно направляется в стабильные страны с высоким уровнем доходов, а не в более бедные и уязвимые к внутренним и внешним вызовам государства.
Митигация таких рисков была осознана экспертами и политиками в качестве приоритетной задачи. Однако вопрос об измерении митигационного эффекта различных финансовых и нефинансовых инструментов не был в достаточной мере проработан ни в концептуальном, ни в техническом плане. Цель статьи — раскрыть сущность проблемы измеримости вклада официальной помощи развитию в минимизацию политических рисков для прямых иностранных инвестиций и спровоцировать научную дискуссию о ключевых ограничениях, осложняющих такое измерение, и путях их преодоления.
Следует отметить, что примеров аналогичной постановки цели в научной литературе обнаружено не было. Хотя при анализе мотивов оказания помощи и ее эффективности коммерческие интересы упоминаются неизменно — и в зарубежных [Berthélemy 2006; van Veen 2011; Dreher, Lang, Reinsberg 2024 и др.], и в отечественных [Дегтерев 2012; Содействие международному развитию… 2018 и др., Морозкина 2018 и др.] исследованиях акцент почти всегда делается на стимулировании экспорта, а не инвестиций. Попытки же оценить эффективность воздействия официальной помощи развитию (ОПР) на факторы политического риска для ПИИ носят скорее спорадический характер и посвящены либо отдельным рискам (экспроприации [Asiedu, Jin, Nandwa 2009; Jin, Zeng 2017 и др.], терроризму [Bandyopadhyay, Sandler, Younas 2014; Efobi, Asongu, Beecroft 2018 и др.], коррупции [Bahoo et al. 2023], либо политике отдельных доноров (главным образом КНР [Lu, Huang, Muchiri 2017; Wang, Yang, Li, Zhang 2022; Гомбоин 2023 и др.]). Степень научной разработанности проблемы действительно не соответствует уровню внимания, которое уделяется ей в политическом дискурсе [Бартенев 2023]. Это указывает на явную исследовательскую нишу, помочь заполнить которую призвана данная статья.
В структурном отношении статья состоит из трех разделов. В первом разделе кратко обозначены концептуальные рамки исследования заявленной проблематики. Во втором охарактеризован комплекс вопросов оценивания вклада традиционных инструментов ОПР в митигацию политических рисков. В третьем раскрыты проблемы измерения митигационного эффекта применительно к гарантийным инструментам, для которых в соответствии с недавними решениями Комитета содействия развитию ОЭСР (КСР ОЭСР) отныне также разрешено рассчитывать грант-эквивалент и отражать его в отчетности по ОПР.
1. Концептуальные рамки исследования
Политический риск является неотъемлемым и хорошо изученным видом риска для внешнеэкономической деятельности (ВЭД) в целом и осуществления ПИИ в частности. В самом общем виде он представляет собой вероятность понести финансовые потери вследствие определенных действий (или бездействия) различных субъектов политического процесса — либо органов государственной власти и представителей государств в международных организациях (риск «легально-правительственного» происхождения), либо различных негосударственных акторов (риск «экстралегального» происхождения)1.
Структуры, осуществляющие защиту инвестиций от политических рисков, используют не идентичные, но весьма сходные их перечни. Сопоставление нами актуальных списков, применяемых профильными международными организациями (Многосторонним агентством по гарантированию инвестиций (МИГА), Азиатским банком развития, Африканским агентством по страхованию торговли, Арабской корпорацией инвестиций и экспортных кредитных гарантий, национальными институтами финансирования развития (ИФР) или экспортно-кредитными агентствами (ЭКА) крупнейших экономик мира (США, Китая, Японии, ФРГ) и ведущими частными страховыми компаниями (AIG, Chubb, Lloyd’s, Sovereign, Zurich Insurance)‚ дало возможность сформировать сводный шорт-лист политических рисков различного происхождения, от которых наиболее часто защищают ПИИ. Он включает в себя национализацию (и экспроприацию), ограничение валютных трансфертов, разрыв/изменение условий контракта, а также различные проявления политического насилия (войны, революции, государственные перевороты, террористические акты и т.д.). Большинство этих рисков может иметь как общенациональный масштаб (риск макро-уровня), так и затрагивать отдельный регион принимающей страны, отдельную отрасль экономики или даже конкретную зарубежную компанию-инвестора (риск микроуровня).
Для измерения политических рисков могут использоваться как статистические параметры, иллюстрирующие отдельные аспекты политического процесса, состояние делового, инвестиционного и регуляторного климата, так и рейтинги политического риска, рассчитываемые специализированными консалтинговыми фирмами (AON, Control Risks, Economist Intelligence Unit, Marsh, PRS Group и т.д.) на основе собственных методик. Пожалуй, самой известной является методика Международного справочника страновых рисков (International Country Risk Guide, ICRG) от The PRS Group, в соответствии с которой уровень политического риска рассчитывается на основе 12 субкомпонентов: 1) стабильность правительства; 2) социально-экономические условия; 3) инвестиционный профиль; 4) внутренний конфликт; 5) внешний конфликт; 6) коррупция; 7) участие военных в политике; 8) религиозные противоречия; 9) правопорядок; 10) этнические противоречия; 11) демократическая подотчетность; 12) качество бюрократического управления [The PRS Group 2022]. Данный рейтинг покрывает не все юрисдикции мира (порядка 150 стран), но ряд преимуществ, в частности, непрерывное составление на протяжении четырех десятилетий (с 1984 г.), обусловливает весьма широкое его использование в литературе, в том числе и в трудах, посвященных решению сходных с поставленными нами задач [Asiedu, Jin, Nandwa 2009; Bandyopadhyay, Sandler, Younas 2014; Fon, Alon 2022 и др.]. Дополнительным аргументом в пользу использования индексов политических рисков (при всем несовершенстве методологии их составления) является также тот факт, что международные компании при выстраивании собственных инвестиционных стратегий нередко ориентируются как раз на них, а отнюдь не на исходные статистические данные, на основе которых эти индексы рассчитаны.
Ключевыми параметрами политического риска, как и любого другого типа рисков‚ выступают вероятность его материализации и масштаб возможных потерь (ущерба). Именно эти параметры используются для ранжирования рисков и разработки стратегий управления ими.
Вполне применимы к политическим рискам для ВЭД и все традиционные стратегии управления рисками. Среди них: 1) избегание риска (прекращение рискованной деятельности) — снижает вероятность его материализации и, как следствие, потерь до нуля; 2) cнижение риска (в том числе посредством диверсификации) — призвано минимизировать вероятность материализации риска и степень его негативного воздействия; 3) страхование риска (посредством его трансферта третьей стороне) — нацелено в первую очередь на минимизацию ущерба за счет обеспечения покрытия потерь гарантом/страховщиком. Среди этих моделей поведения нас более всего интересует снижение рисков и их страхование.
Очевидно, что частная компания, ориентированная на освоение зарубежных рынков2, в своем стремлении управлять политическими рисками для ПИИ гипотетически может обходиться и без взаимодействия с государственными учреждениями страны происхождения [См. подробнее: Godfrey, Merill and Hansen 2009; Ali et al. 2021; Choi, Chung and Wang 2022]. Во-первых, она может идти по пути создания совместных предприятий. Во-вторых, лоббировать свои интересы во властных кругах принимающей страны. В-третьих, обратиться к частным страховым компаниям и приобрести у них страховку от отдельных рисков того или иного происхождения или некий пакетный продукт. В-четвертых, сделать ставку на реализацию социально ориентированных проектов в той стране, где она размещает инвестиции. Последнее позволяет минимизировать, с одной стороны, риски «легально-правительственного» происхождения (принятия властями принимающей страны по отношению к ней различных мер ограничительного характера), а с другой — риски нанесения ущерба ее собственности в ходе революций, протестов и т.п.
В то же время у частных компаний есть целый ряд опций управления политическими рисками через взаимодействие с официальными институтами страны происхождения. Часть из них предполагает выстраивание отношений с государством именно как с провайдером содействия международному развитию (СМР) (подробнее см.: [Бартенев 2023b]). Очевидно, что такое взаимодействие осуществляют и государственные компании. При этом и параметры политических рисков, с которыми им приходится сталкиваться в принимающих странах, особенно в условиях неуклонного обострения межгосударственного соперничества, и механизмы митигации таких рисков будут иметь определенные отличия, заслуживающие отдельного рассмотрения (за рамками данной статьи).
С одной стороны, компания может добиваться от властей страны происхождения финансового покрытия потерь от политических рисков, связанных с планируемыми (а в идеале и уже осуществленными) инвестициями в развивающиеся страны. Речь идет о подаче заявок в ЭКА или ИФР на получение такой защиты за определенную плату. Тем самым компания получает не только покрытие львиной доли инвестированных средств (обычно не менее 90%), но и политическую поддержку государства, которая минимизирует вероятность материализации ключевых «легально-правительственных» рисков, в первую очередь национализации и экспроприации. Возникает так называемый «эффект ореола» (halo effect): опасаясь ухудшения отношений с гарантом, власти принимающей страны могут воздерживаться от принятия любых ограничительных мер в отношении связанных с ним иностранных компаний, хотя такое их поведение отнюдь не предопределено.
С другой стороны, частная компания может лоббировать оказание властями страны происхождения такой помощи принимающей стране, которая будет способствовать минимизации политических рисков любого типа для ее деятельности. Речь может идти, например, о содействии улучшению инвестиционного и делового климата, совершенствованию законодательства, борьбе с коррупцией (способных митигировать риски «легально-правительственного» происхождения) в общенациональном масштабе или о совершенствовании регуляторных практик в отдельных отраслях экономики, или о помощи, направленной на снижение уровня конфликтности в обществе (призванной способствовать снижению уровня рисков «экстралегального» происхождения). Все эти направления помощи активно задействуются уже на протяжении многих десятилетий и составляют важную часть потоков ОПР.
Отдельной стратегией выступает подкрепление принимающей страной проектируемых капиталовложений отдельных компаний предоставлением льготного финансирования по правительственной линии с целью удержать власти страны-реципиента от экспроприации и других деструктивных действий в отношении инвестора в будущем. Последний способ весьма активно задействуется Китайской Народной Республикой [Гомбоин 2023]. Очевидно, что такая помощь будет митигировать политические риски только для компаний из страны-провайдера, но не для инвесторов из третьих стран.
Наконец, нельзя не упомянуть еще об одной опции, доступной национальным компаниям страны-донора, — вовлекаться в выполнение проектов и программ СМР в качестве подрядчиков при «связывании» помощи государством-провайдером (то есть изначально формальном ограничении круга поставщиков товаров и услуг национальными компаниями) или фактическом выборе национальных фирм в качестве подрядчиков при проведении закупок, открытых для компаний из других стран3. Тем самым компания из государства-донора может получить возможность выхода на новые, еще не освоенные зарубежные рынки с нулевым риском без осуществления собственных капиталовложений. Несмотря на то, что в последние годы практику «связывания» стали ассоциировать преимущественно с КНР, она характерна для многих доноров из числа стран-членов КСР ОЭСР. Хотя под эгидой Комитета была разработана рекомендация по снижению доли «связанной» помощи для наиболее уязвимых категорий стран, значимого прогресса в ее выполнении достигнуть не удалось: доля де-юре «связанной» помощи в общем объеме ОПР от стран-доноров КСР ОЭСР с начала века даже выросла с 16,9 % в 2000 г. до 19,1 % в 2022 г. Де-факто же только в 13% проектов функции поставщиков товаров и услуг осуществляли развивающиеся страны, и только в 9% фирмы из самой страны-реципиента [OECD 2022a].
Для повышения эффективности работы на указанных выше направлениях частные компании предпринимают проактивные действия. Они направляют своих представителей на парламентские слушания, посвященные политике развития, а также в различные консультативные органы, создаваемые при национальных агентствах содействию развитию, выделяют гранты различным аналитическим центрам на проведение исследований по проблематике содействия развитию4 и т.д. Большое значение имеет и активный обмен кадрами между частным сектором и агентствами содействия развитию, когда представители корпоративного мира приходят на государственную службу в агентства содействия развитию и выступают проводниками интересов частного бизнеса.
Власти стран происхождения, со своей стороны, также могут быть заинтересованы в удовлетворении потребностей национальных компаний в митигации политических рисков всеми описанными выше способами.
С одной стороны, этого требуют императивы внешней и внешнеэкономической политики — стремление поддержать экспансию национального экспортно-ориентированного бизнеса, которая может способствовать укреплению политического влияния в странах его присутствия. Применительно к предоставлению гарантийной защиты от политических рисков не стоит забывать и о том, что такая деятельность приносит доход, который в ряде случаев может быть весьма солидным5 и использоваться ИФР для последующего реинвестирования и расширения своего портфеля — как гарантийного, так и, например, кредитного.
С другой стороны, власти государств-доноров могут руководствоваться и стремлением соответствовать современным международным девелопменталистским «стандартам», сегодня подразумевающим в том числе и создание благоприятных условий для мобилизации частного капитала. На это провайдеров ориентируют многие ключевые международные документы, принятые в первой четверти XXI в., в том числе сама Повестка дня в области устойчивого развития на период до 2030 г. и Аддис-Абебская программа действий 2015 г.
Исходя из описанной выше логики, просматривается гипотетическая возможность «квантификации» вклада различных потоков, отражаемых в отчетности по ОПР, в митигацию политических рисков с опорой на данные официальной международной статистики, но решение этой задачи сопряжено с целым рядом сложностей.
2. Проблемы оценивания митигационного эффекта традиционных инструментов ОПР
В сфере СМР проблема операционализации тех или иных количественных показателей обычно решается посредством достижения соответствующих договоренностей между представителями ведущих государств-провайдеров под эгидой международных организаций. Главной многосторонней площадкой вот уже более полувека выступает КСР ОЭСР, учрежденный в 1961 г. на базе Группы по содействию развитию Организации европейского экономического сотрудничества. Именно под эгидой данного органа в целях обеспечения сопоставимости вклада различных государств в международное развитие в 1969 г. был разработан стержневой для всей глобальной архитектуры СМР технико-статистический показатель — «официальная помощь развитию» (ОПР) и согласованы критерии отнесения финансовых потоков к ОПР.
Согласно актуальной версии рекомендаций КСР ОЭСР по статистическому учету финансовых потоков, представленной в сентябре 2024 г., ОПР объединяет «гранты и кредиты, направляемые официальными органами (включая власти регионального и муниципального уровней) или их исполнительными агентствами официальным учреждениям стран и территорий, включенных КСР ОЭСР в список реципиентов ОПР, международным неправительственным организациям и многосторонним институтам развития в интересах содействия экономическому развитию и благосостоянию развивающихся стран в качестве основной цели и на льготной основе» [OECD, 2024a. P. 17].
ОПР сегодня включает существенно более широкий спектр потоков, чем полвека назад, и ее «модернизация» продолжается, несмотря на все раccуждения о том, что этот показатель безнадежно устарел. Отчетность по ОПР в ОЭСР представляют в том или ином виде около 50 государств, включая три десятка стран-членов КСР ОЭСР и около 20 стран, не входящих в «клуб доноров», включая таких крупных провайдеров, как Турция и арабские монархии Персидского залива. Ни КНР, ни большинство других незападных государств — участников сотрудничества по линии Юг-Юг не предоставляют отчетность в ОЭСР, но есть примеры подсчета объемов потоков помощи от представителей последней категории доноров, «соответствующих критериям ОПР» (ODA-like flows) — в частности, лабораторией AidData в Колледже Вильгельма и Марии (США) [Custer et al. 2023].
Данные по ОПР, доступные в базах ОЭСР, как известно, отличаются весьма высокой степенью детализации. По большей части провайдеров доступна подробная информация по распределению помощи между отдельными видами, финансовыми инструментами, каналами. Особое значение для решения поставленной в статье задачи имеет дифференциация потоков ОПР по целевым направлениям, каждому из которых в классификаторе ОЭСР присваивается отдельный код (purpose code). В общей сложности в базе ОЭСР представлено более двух сотен таких направлений (кроме того, доноры могут добровольно отчитаться о своей деятельности еще более детально с использованием дополнительного набора кодов) [OECD 2024c].
Именно классификация по целевым направлениям несколько раз использовалась для выделения определенной совокупности направлений оказания помощи для решения задач мониторинга потоков помощи. Так, в 2006 г. Рабочая группа, учрежденная ВТО для реализации инициативы «Помощь в развитии торговли» (Aid for Trade)6, обозначила несколько ключевых областей СМР, для каждой из которых в целях отслеживания динамики соответствующих потоков был составлен весьма широкий перечень кодов целевых направлений из классификатора ОЭСР [OECD/WTO 2015. P. 455–459]. Схожим образом в Секретариате ОЭСР в 2023 г. был согласован перечень из 22 целевых направлений для новой «зонтичной» категории «ОПР для обеспечения мира» (Peace ODA), для расчета которой был взят за основу подход, предложенный Институтом экономики и мира в 2017 г. [Institute for Economics and Peace 2017]. Категория объединяет «первостепенные» для миростроительства (сore peacebuilding) направления из подраздела 152 классификатора ОЭСР («Урегулирование конфликтов, обеспечение мира и безопасности» и «второстепенные» (secondary peacebuilding) — из подраздела 151 («Государственное управление и поддержка гражданского общества») [OECD 2023a].
Несмотря на наличие практики составления перечня целевых направлений под конкретную задачу, аналогичного списка «секторов», значимых для митигации политических рисков для бизнеса, на международном уровне предложено не было (что в целом логично, учитывая формальную нацеленность ОПР на содействие развитию стран-реципиентов, а не на защиту капиталовложений компаний из стран-доноров). Таким образом, в проработке вариантов количественного оценивания вклада ОПР в митигацию политических рисков для бизнеса нам остается отталкиваться только от общей логики.
Итак, в рамках квантификации вклада традиционной ОПР в митигацию политических рисков для ПИИ предиктором должны выступать объемы помощи того или иного вида (в денежном выражении), направленной государством-провайдером A в страну-реципиент Б, которая одновременно является принимающей страной для ПИИ компаний из государства A. В релевантной научной литературе есть примеры использования в качестве предикторов при оценивании митигационного эффекта внешней помощи как агрегированных показателей (в том числе в процентах от ВВП), так и отдельных видов ОПР — двусторонней помощи, многосторонней помощи (кредитов отдельных международных организаций, «конфликтоориентированной помощи» (совпадающей по охвату со спектром «первостепенных для миростроительства» направлений, упомянутых выше), помощи в развитии инфраструктуры и т.д.7
Формат классификатора ОЭСР позволяет сформировать выборку целевых направлений, чей потенциал оказания митигационного воздействия на уровень политических рисков для бизнеса из государств-доноров в странах-реципиентах видится, исходя из общих представлений об осуществлении деятельности ПИИ, наиболее высоким. Эти направления без труда можно соотнести, например, с теми параметрами, которые выступают компонентами наиболее известных индексов политических рисков, в частности рейтинга, рассчитываемого The PRS Group по методике ICRG (см. таблицу 1).
Таблица 1. Результаты соотнесения целевых направлений оказания ОПР с высоким митигационным потенциалом на параметры политических рисков с субкомпонентами рейтинга политических рисков, рассчитываемого The PRS Group по методике ICRG
|
Целевое направление ОПР по классификатору ОЭСР
|
Компоненты рейтинга политического риска, рассчитываемого The PRS Group по методике ICRG |
|
|
Код
|
Название |
Название субкомпонента и его вес (%) |
|
15110 |
Политика и администрирование в государственном секторе |
Качество бюрократического управления (4) |
|
15111 |
Управление государственными финансами |
|
|
15113 |
Организации и институты по противодействию коррупции |
Коррупция (6) |
|
15130 |
Развитие судебно-правовой системы |
Правопорядок (6) |
|
15150 |
Содействие демократии |
Демократическая подотчетность (6) |
|
15151 |
Выборы |
|
|
15152 |
Законодательные собрания и политические партии |
Стабильность правительства (12) |
|
15160 |
Защита прав человека |
Правопорядок (6) |
|
15210 |
Реформа сектора безопасности |
Участие военных в политике (6) |
|
15220 |
Гражданское миростроительство, предотвращение и урегулирование конфликтов |
Внутренний конфликт (12) Внешний конфликт (12) Религиозные противоречия (6) Этнические противоречия (6) |
|
15230 |
Участие в международных миротворческих операциях |
|
|
15240 |
Реинтеграция бывших комбатантов и контроль за распространением стрелкового и легких вооружений |
|
|
15250 |
Уничтожение мин и взрывоопасных остатков войны |
|
|
15261 |
Предотвращение рекрутирования детей в комбатанты и их демобилизация |
|
|
16010 |
Социальная защита |
Социально-экономические условия (12) |
|
16020 |
Обеспечение занятости |
|
|
16070 |
Защита прав трудящихся |
|
|
24010 |
Политика и администрирование в финансовом секторе |
Инвестиционный профиль (12) |
|
25010 |
Политика и администрирование в сфере бизнеса |
|
|
51010 |
Поддержка общего бюджета |
|
|
600 |
Операции по облегчению задолженности |
|
Источник: составлено автором на основе: OECD, 2024b; The PRS Group, 2022
Как мы видим, 10 из 12 субкомпонентов данного рейтинга политического риска соотносятся с целевыми направлениями из раздела 150 «Государственное управление и поддержка гражданского общества», которые входят в упомянутую выше категорию «ОПР в целях обеспечения мира», уже используемую Секретариатом ОЭСР в мониторинговых целях. Однако рассчитывать коэффициенты корреляции между агрегированными объемами «ОПР в целях обеспечения мира», предоставляемой страной A стране B, и сводным показателем страны B по рейтингу политических рисков от The PRS Group не имеет смысла. Ни один донор не распределяет свою помощь отдельно взятому реципиенту равномерно между всеми целевыми направлениями, а значит, разные политические риски будут митигироваться в различной степени. Это однозначно указывает на необходимость расчета корреляций между прямо соотносящимися друг с другом целевыми направлениями ОПР и субкомпонентами рейтинга политических рисков. Такой анализ гипотетически может позволить сопоставлять митигационный потенциал различных целевых направлений (или их кластеров) друг с другом. Однако на пути проведения такого анализа встают весьма серьезные препятствия.
В первую очередь отметим осложняющую применение эконометрических методов проблему взаимной обусловленности переменных (ведущей к смещению из-за одновременности [simultaneity bias]).
Не только политика содействия развитию может воздействовать на уровень политических рисков в странах-реципиентах, но и наоборот: имеет место ярко выраженная параллельная зависимость объемов ОПР от уровня политических рисков в странах-реципиентах и тех факторов, которые генерируют соответствующие риски.
По последним данным, собранным Международной сетью по конфликтам и нестабильности (International Network on Conflict and Fragility, INCAF), ОПР, направляемая в 60 стран, причисляемых к категории «нестабильных контекстов»8, снизилась с 2010 по 2022 г. на 10%, и в 2022 г. составила всего 48,8% от ОПР от стран-членов КСР ОЭСР, что стало наихудшим показателем за прошедшее десятилетие [OECD 2024d. P. 3]. Не менее важно и то, что снижается «помощь в целях обеспечения мира»: в 2022 г. — на фоне резкого увеличения объемов ОПР для Украины — данный показатель составил 4,9 млрд долл., а его доля в общем объеме — лишь 9,9% (наименьший показатель с 2006 г.) [OECD 2024d. P. 10]. Отдельно стоит отметить рост фрагментации помощи по мере повышения уровня «нестабильности» реципиентов: так, в «чрезвычайно нестабильной стране» (extremely fragile country) в среднем действуют 27 двусторонних и 14 многосторонних доноров, в других — 22 двусторонних и 11–14 многосторонних [Hoeffler and Justino 2023. Р. 8]. Эта тенденция представляется особенно тревожной, поскольку обслуживание интересов большего числа доноров увеличивает нагрузку на и без того слабые институты реципиентов, становясь, таким образом, дополнительным фактором политического риска в том числе и для иностранных капиталовложений.
Важно и другое. Существует бесчисленное множество эндогенных и экзогенных факторов политического риска, которые влияют на их уровень (и соответственно, на потоки ПИИ)‚ помимо поступающей в страну ОПР.
Представим себе лишь одну из множества конкретных ситуаций, которые могут произойти в диаде «донор-реципиент». На протяжении большей части года страна-донор A направляет стране-реципиенту B, чья внутренняя и внешняя политика в целом соответствует интересам донора, достаточно значимые объемы помощи, в том числе и по направлениям, обозначенным в таблице 1. Затем в последнем квартале под влиянием внутренних факторов в стране B происходит государственный переворот, и к власти приходит правительство, гораздо менее лояльно настроенное по отношению к стране A и присутствию ее государственных и частных компаний. В ответ на это страна A решает временно приостановить или существенно сократить помощь стране B.
В статистике описанная ситуация отразится весьма специфически: годовое значение ключевых субкомпонентов рейтинга политических рисков от The PRS Group, рассчитываемого по методике ICRG как среднеарифметическое от суммы помесячных значений, вероятнее всего, превысит показатели предыдущего календарного года, в то время как числовое значение предоставленной ОПР, скорее всего, будет ниже, чем в предшествующем году. Цифровые показатели, взятые сами по себе, без учета описанного радикального изменения политического контекста, будут указывать на наличие митигационного эффекта (меньше помощи — больше риски), однако в действительности параметры поменяются независимо друг от друга.
Даже если бы обозначенные две проблемы имели концептуальное решение, качество имеющихся числовых данных для проведения регрессионного анализа в соответствии с описанным выше замыслом вряд ли можно было признать удовлетворительным. К большому сожалению, присвоение тому или иному проекту содействия развитию цифрового кода из классификатора ОЭСР представителями стран-доноров отнюдь не всегда производится методологически безупречно.
Проиллюстрируем эту проблему на примере направления «Политика и администрирование в сфере бизнеса». Его формальное описание, содержащееся в материалах КСР ОЭСР, идеально соответствует задаче митигации инвестиционных политических рисков «легально-правительственного» происхождения: «Политика и институциональная поддержка развития [благоприятной] бизнес-среды и инвестиционного климата, включая бизнес-регулирование, защиту прав собственности, антидискриминационное законодательство, поддержку инвестиций, антимонопольную политику, законодательство о предприятиях, государственно-частные партнерства». На деле же данный код присваивается проектам самого разного свойства. Так, например, в базе «Система отчетности кредиторов» ОЭСР (Creditor Reporting System, CRS) применительно к крупнейшему мировому донору — США — по направлению «политика и администрирование в сфере бизнеса» в 2022 г. значатся, среди прочего, следующие мероприятия:
— проект «KosovoUp to Youth» в Косово, нацеленный на работу с представителями уязвимых слоев молодежи в крае, подвергающейся социальному исключению, посредством их мобилизации и побуждения к осуществлению позитивных изменений;
— обучение служащих местных правительств английскому языку в Сербии;
— программа «Посетите Тунис», направленная на «капитализацию» природных, культурных и исторических достопримечательностей, диверсификацию и повышение качества услуг в секторе, который вносит вклад в инклюзивный экономический рост;
— поддержка центров превосходства в области информационных технологий и высокоприбыльных агропроизводств в Молдове и др. [OECD 2024b].
Подобные несоответствия (между характером реализуемого мероприятия и присвоенным ему кодом из классификатора) можно найти в достаточно большом количестве и применительно к любому другому релевантному целевому направлению. А значит, для расчета корреляций между объемами помощи и уровнем политического риска в странах-реципиентах потребуется осуществлять перепроверку правильности произведенной ответственными за подачу сведений в ОЭСР лицами кодировки каждого отдельно взятого проекта вручную. Это крайне трудоемкая работа, осмысленность проведения которой также вызывает большие сомнения.
3. Проблемы оценивания митигационного эффекта гарантирования инвестиций в развитие
Если рассуждать абстрактно, статистически может быть измерен и митигационный эффект инструментов гарантирования инвестиций в развитие, для которых, как уже отмечалось, решено отныне рассчитывать грант-эквивалент и отражать его в отчетности по ОПР. Для осуществления такого измерения важно в первую очередь разграничить параметры возможного ущерба от риска и, собственно, вероятность его реализации.
Очевидно, что на параметры политических рисков, воспринимаемых инвестором, будет воздействовать сам факт гарантирования компенсации возможных потерь, что, собственно, и обусловливает каталитический эффект гарантийных инструментов. При этом в чисто финансовом плане митигационный эффект гарантирования применительно к одному инвестпроекту стоимостью 1 млрд долл. и 10 проектам стоимостью 100 млн долл. каждый — при идентичных условиях покрытия — будет в нашем понимании одинаков. Однако, чтобы правильно интерпретировать данные по объемам выдачи такого рода гарантий (и/или мобилизованного с их помощью капитала) в разрезе их воздействия на восприятие инвесторами рисков, необходимо знать конкретные условия предоставления гарантий. Это касается как охвата покрываемых рисков, так и доли компенсируемого гарантом ущерба (которая может отличаться на много процентных пунктов).
Отдельного внимания заслуживает вопрос о квантификации вклада гарантийных инструментов в снижение вероятности материализации политических рисков — за счет т.н. «эффекта ореола». Этот эффект обеспечивает митигацию только рисков «легально-правительственного» происхождения, и, соответственно, исследователю принципиально важно знать отнюдь не только объемы гарантирования, но и охват покрываемых гарантией рисков.
Однако соотнесение объемов гарантирования с показателями рейтинга политических рисков от The PRS Group, подобное тому, которое было описано в предыдущем разделе применительно к традиционным инструментам ОПР, вряд ли возможно. Хотя в методике ICRG рейтинг политических рисков содержит субкомпонент «инвестиционный профиль» (включающий три элемента: риск расторжения контракта/экспроприации; риск ограничений на вывод прибыли; риск задержек с выплатами по контрактам), расчет корреляции между ним и объемами гарантирования инвестиций не имеет никакого смысла. Гарантирование создает «эффект ореола» для конкретного проекта, тогда как рейтинг The PRS Group (или любой другой рейтинг того же типа) оценивает соответствующие риски в масштабе всей страны и безотносительно отрасли.
Наиболее точную информацию о силе «эффекта ореола» может дать информация по гарантийным выплатам. Важно знать, какая доля поддержанных проектов столкнулась с настолько серьезными рисками, что такие выплаты были осуществлены, а какое количество конфликтных ситуаций с властями принимающих стран (в случае материализации соответствующих рисков) удалось урегулировать посредством вмешательства властей страны происхождения.
Однако воплотить эти идеи касательно измерения митигационного эффекта гарантий на практике, к сожалению, невозможно. Проблема в данном случае, увы, гораздо, банальнее, чем в случае с традиционными инструментами ОПР и заключается в элементарном отсутствии необходимых статистических данных достаточного объема и качества.
На протяжении длительного времени в статистике ОЭСР в принципе отсутствовали какие-либо данные о масштабах применения гарантийных инструментов. Это объяснялось тем, что в ней отражались только выплаты по гарантиям (в случае материализации покрываемых ими рисков), причем в качестве прочих официальных потоков (other official flows) [OECD 2023c. P. 5]. С 2012 г. стал вестись учет объема мобилизованного с помощью гарантийных инструментов капитала — в том числе с детализацией по странам-бенефициарам и секторам. Однако из этих данных нельзя понять ни страну происхождения компании, которой было предоставлено гарантийное покрытие, ни — самое главное — тип риска, от которого защищают инвестора (или кредитора инвестпроекта).
В 2023 г. принципы статистического учета изменились. Помимо объемов мобилизованных средств было решено рассчитывать льготность тех гарантий, которые защищают проекты, ориентированные в первую очередь на содействие развитию в странах-реципиентах ОПР, соответствуют критериям финансовой и девелопменталистской дополнительности (additionality) и предоставляются на срок более 1 года [OECD-DAC-WP-STAT 2024d. P. 3]. Также было решено, что отчетность провайдеров гарантий станет гораздо более детализированной: шаблон анкеты, которые будут заполнять доноры, содержит 53 (!) позиции.
Однако даже после того, как переход на более детализированную отчетность будет осуществлен, и при условии, что большинство доноров будут предоставлять данные в новом формате, в «сыром виде» эти данные нельзя будет использовать для оценки вклада гарантий в митигацию политических рисков для бизнеса. В новой анкете просто не предусмотрено графы для указания того, от каких именно рисков защищает инвесторов конкретная гарантия, а ведь, по имеющимся данным, довольно значительная доля гарантий покрывает либо коммерческие риски, либо коммерческие и политические риски одновременно. Соответственно, количественные данные и по объемам гарантийного покрытия, и по объемам мобилизованных с помощью гарантий средств невозможно будет применять «как есть», и единственным выходом будет обращаться к данным национальных агентств. Однако последние крайне фрагментарны — в том числе в части, касающейся конкретных условий предоставления гарантий.
Даже если бы необходимые для анализа числовые показатели присутствовали в международной статистике, вряд ли бы удалось избежать проблемы взаимной обусловленности (и смещения из-за одновременности), которая применительно к гарантийным инструментам имеет специфическое выражение. С одной стороны, в среднем более значительная доля ПИИ в нестабильных и затронутых вооруженными конфликтами государствах имеет страховое покрытие, чем в других странах с низким уровнем доходов (6,2% vs 3,8%) [US International Development Finance Corporation 2023. P. 24]. С другой стороны — объемы гарантийного покрытия проектов в наиболее высокорисковых юрисдикциях остаются крайне незначительными, равно как и объемы мобилизованного посредством гарантий капитала (по данным ОЭСР за 2018–2020 гг., на эту группу реципиентов пришлось лишь 24% от общего объема привлеченных средств) [OECD 2023b. P. 17].
Текущая международная конъюнктура создает неопределенность в отношении траектории изменения этих показателей. С одной стороны, сами компании по-прежнему опасаются инвестировать в высокорисковые юрисдикции. Однако мы видим, как государства-провайдеры всячески стараются увеличить объемы привлечения частного капитала в приоритетные (с геополитической и геоэкономической точки зрения) регионы/страны/сектора (в том числе и с высоким уровнем политических рисков) — как посредством убеждения национальных инвесторов, так и посредством субсидирования ставок страховых премий.
Другими словами, не исключена ситуация, при которой объемы расходов государств-доноров на гарантирование инвестиций, засчитываемые по системе грант-эквивалента в качестве ОПР, будут предопределяться уровнем политических рисков в большей степени, чем предопределять их сами.
Заключение
Частные компании и страны их происхождения обоюдно заинтересованы в максимально широком задействовании ресурсов содействия международному развитию для митигации рисков политического характера, заметно затрудняющих капиталовложения в развивающиеся страны. В зависимости от выбранной стратегии управления рисками в этом качестве могут выступать как классические инструменты ОПР, так и гарантийные инструменты мобилизации частного капитала.
Митигационный эффект традиционных инструментов ОПР теоретически можно попытаться измерить количественно: в качестве предиктора могли бы выступать отдельные целевые направления ОПР, наиболее релевантные с точки зрения воздействия на политические процессы в стране-реципиенте и факторы, их детерминирующие, а в качестве регрессора — те или иные числовые показатели из рейтингов политических рисков, соотнесенные с этими направлениями. В случае с гарантийными инструментами можно, в свою очередь, измерить их прямой каталитический эффект, отталкиваясь от объемов мобилизованного капитала, и «эффект ореола» — защиты от рисков «легально-правительственного» происхождения — посредством расчета доли проектов, где эффект гарантий не сработал, и инвесторы понесли потери.
Однако для применения количественных методов есть целый ряд непреодолимых ограничений. В случае с классическими инструментами ОПР главной проблемой является взаимная обусловленность переменных, а также наличие массы экзогенных и эндогенных факторов, воздействующих как на объемы помощи, так и на параметры политических рисков, многие из которых могут быть отражены только через фиктивные переменные. В случае с гарантийными инструментами ситуация иная: измерение их прямого каталитического эффекта и силы «эффекта ореола» затрудняет в первую очередь крайняя степень фрагментарности и несовершенства исходных данных, которую решение о расчете грант-эквивалента для гарантий и их отражении в отчетности по ОПР пока никак не устраняет.
Все это, с нашей точки зрения, указывает на затруднительность оценивания митигирующего воздействия потоков, квалифицируемых в качестве ОПР, на политические риски исключительно на основе количественных данных и важность опоры на качественные методы анализа с привлечением самого широкого круга взаимодополняющих источников различного типа. Найти оптимальное сочетание аналитических инструментов может помочь детальный разбор конкретных кейсов. В рамках него объектом внимания должны быть не только числовые параметры, отраженные в официальной отчетности по ОПР того или иного провайдера или рейтингах политического риска, но и «тонкие» характеристики предоставляемого финансирования в целях развития, его условия, а также динамические изменения контекста и факторов политического риска в принимающей инвестиции стране и ее взаимоотношениях с внешним миром. Отбор интересных и репрезентативных кейсов сам по себе представляет нетривиальную задачу, поиск решения которой может прочертить новые пути в разработке заявленной проблематики.
Библиография
Бартенев В.И. Влияние международной помощи на политические риски для прямых иностранных инвестиций // Вестник МГИМО-Университета. 2023. № 16(5). С. 155–188. https://doi.org/10.24833/2071-8160-2023-5-92-155-188
Бартенев В.И. Содействие международному развитию и политические риски для внешнеэкономической деятельности: логика сопряжения тем // Вестник Московского университета. Серия XXV. Международные отношения и мировая политика. 2023. Т. 15. №1. Pp. 133–163. https://doi.org/10.48015/2076-7404-2023-15-1-133-163
Гомбоин З.Э. Официальная помощь КНР развивающимся странам как инструмент защиты инвестиций китайских компаний от политических рисков // Проблемы Дальнего Востока. 2023. № 6. С. 48–58. https://doi.org/10.31857/S013128120028881-0
Дегтерев Д.А. Содействие международному развитию как инструмент продвижения внешнеполитических и внешнеэкономических интересов // Вестник МГИМО-Университета. 2012. № 2 (23). С. 47–58.
Морозкина А.К. Двусторонняя официальная помощь развитию: влияние мирового финансового кризиса 2008‒2009 гг.: Дисс. … канд. экон. наук. М., 2018.
Содействие международному развитию как инструмент внешней политики: зарубежный опыт / Под ред. В.Г. Барановского, Ю.Д. Квашнина, Н.В.Тогановой, М: ИМЭМО РАН, 2018. https://doi.org/10.20542/978-5-9535-0548-2
Ali T. et al. International projects and political risk management by multinational enterprises: insights from multiple emerging markets // International Marketing Review. 2021. Vol. 38. No. 6. P. 1113–1142. https://doi.org/10.1108/IMR-03-2020-0060
Asiedu E., Jin Y., Nandwa B. Does foreign aid mitigate the adverse effect of expropriation risk on foreign direct investment? // Journal of International Economics. 2009. Vol. 78. No. 2. P. 268–275. https://doi.org/10.1016/j.jinteco.2009.03.004
Bahoo S., Alon I., Floreani J., Cucculelli M. Corruption, formal institutions, and foreign direct investment: The case of OECD countries in Africa // Thunderbird International Business Review. 2023. Vol. 65. No. 5. P. 461–483. https://doi.org/10.1002/tie.22361
Bandyopadhyay S., Sandler T., Younas J. Foreign direct investment, aid, and terrorism // Oxford Economic Papers. 2014. Vol. 66. No. 1. P. 25–50. https://doi.org/10.1093/oep/gpt026
Berthélemy J. C. Bilateral donors’ interest vs. recipients’ development motives in aid allocation: Do all donors behave the same? // Review of Development Economics. 2006. Vol. 10. No. 2. P. 179–194. https://doi.org/10.1111/j.1467-9361.2006.00311.x
Bertrand O., Betschinger M.A. Exploring the relationship between development aid and FDI from developed countries in developing countries: empirical insights from Japanese firm-level data // Journal of International Business Studies. 2024. Vol. 55. P. 782–795. https://doi.org/10.1057/s41267-024-00688-5
Choi W., Chung C.Y., Wang J. Firm-level political risk and corporate investment // Finance Research Letters. 2022. 46: 102307. https://doi.org/10.1016/j.frl.2021.102307
Custer S. et al. 2023. Tracking Chinese development finance: An application of AidData’s TUFF 3.0 Methodology. Williamsburg, VA: AidData at William & Mary. Режим доступа: https://www.aiddata.org/data/aiddatas-global-chinese-development-finance-dataset-version-3-0
Dreher A., Lang V., Reinsberg B. Aid effectiveness and donor motives // World Development. 2024. Vol. 176. https://doi.org/10.1016/j.worlddev.2023.106501
Efobi U., Asongu S., Beecroft I. Aid, terrorism, and foreign direct investment: Empirical insight conditioned on corruption control // International Economic Journal. 2018. Vol. 3. No.4. P. 610–630. https://doi.org/10.1080/10168737.2018.1549089
Fon R., Alon I. Governance, foreign aid, and Chinese foreign direct investment // Thunderbird International Business Review. 2022. Vol. 64. No. 2. P. 179–201, https://doi/org/10.1002/tie.22257
Godfrey P.C., Merrill C.B., Hansen J.M. The relationship between corporate social responsibility and shareholder value: An empirical test of the risk management hypothesis // Strategic Management Journal. 2009. Vol. 30. No 4. P. 425–445.
Hoeffler A., Justino P. Aid and fragile states. WIDER Working Paper 2023/83. Helsinki: UNU-WIDER, 2023. https://doi.org/10.35188/UNU-WIDER/2023/391-8
Institute for Economics and Peace. Measuring peacebuilding cost-effectiveness. 2017. Режим доступа: https://ods.ceipaz.org/wp-content/uploads/2018/06/Measuring-Peacebuilding_WEB.pdf
Jin Y., Zeng Z. Expropriation and foreign direct investment in a positive economic theory of foreign aid // Economic Theory. 2017. Vol. 64. No. 1. P. 139–160. https://doi.org/10.1007/s00199-016-097
Kennedy C. R. Political risk management: International lending and investing under environmental uncertainty. New York: Quorum Books, 1987.
Lu J., Huang X., Muchiri M. Political risk and Chinese outward foreign direct investment to Africa: The role of foreign aid // Africa Journal of Management. 2017. Vol. 3. No.1. P. 82–98. https://doi.org/10.1080/23322373.2016.1275941
OECD. Converged Statistical Reporting Directives for the Creditor Reporting System (CRS) and the Annual DAC Questionnaire. Chapters 1–6. 4 September 2024. Режим доступа: https://one.oecd.org/document/DCD/DAC(2024)40/FINAL/en/pdf
OECD. Creditor Reporting System: Aid activities. OECD International Development Statistics (database). 2024. https://doi.org/10.1787/data-00061-en
OECD. DAC and CRS List of codes. Updated on 14/06/2024. Режим доступа: https://web-archive.oecd.org/temp/2024-06-19/57753-dacandcrscodelists.htm
OECD. INCAF Facts and Figures Series: ODA final data and trends for 2022 in relation to fragile and conflict-related contexts. 22 January 2024. Режим доступа: https://one.oecd.org/document/DCD/DAC/INCAF(2024)1/en/pdf
OECD. Peace and official development assistance. OECD Development Perspectives, No. 37. Paris: OECD Publishing, 2023. https://doi.org/10.1787/fccfbffc-en.
OECD. Private finance mobilised by official development finance interventions. OECD Development Perspectives, No. 29. Paris: OECD Publishing, 2023. https://doi.org/10.1787/c5fb4a6c-en.
OECD. Private sector instruments: treatment of credit guarantees. 6 March 2023. Режим доступа: https://one.oecd.org/document/DCD/DAC/STAT(2022)50/REV1/en/pdf
OECD. Report on the Implementation of the DAC Recommendation on Untying Official Development Assistance. 5 September 2022. Режим доступа: https://one.oecd.org/document/DCD/DAC(2022)34/FINAL/en/pdf .
OECD. States of Fragility 2022. Paris, OECD Publishing, 2022, https://doi.org/10.1787/c7fedf5e-en.
OECD/WTO. Aid-for-trade related CRS purpose codes by category. In: Aid for trade at a glance 2015: Reducing trade costs for inclusive, sustainable growth. Geneva: WTO, Paris: OECD Publishing, 2015. P. 455–459. https://doi.org/10.1787/aid_glance-2015-en.
The PRS Group. The ICRG Methodology. 2022. Режим доступа: https://www.prsgroup.com/wp-content/uploads/2022/04/ICRG-Method.pdf
US International Development Finance Cooperation. Annual Report 2023. Режим доступа: https://www.dfc.gov/sites/default/files/media/documents/DFC%20FY23%20Annual%20Report.pdf
Van der Veen A. Ideas, interests and foreign aid. Cambridge University Press, 2011.
Wang H., Yang H., Li F., Zhang M. Does foreign aid reduce the country’s risk of OFDI? // The Chinese experience. International Studies of Economics. 2022. Vol. 18. No 2. P. 238–258. https://doi.org/10.1002/ise3.20
Примечания
1 Разделение на «легально-правительственные» и «экстралегальные» риски было предложено в [Kennedy 1987].
2 В данной статье под частными компаниями понимаются коммерческие организации, в которых процент участия частных лиц превышает 50%. Выбор такого определения обусловлен стремлением соответствовать принципам разграничения направляемых в развивающиеся страны трансграничных потоков на официальные и частные, которые применяются в статистике ОЭСР.
3 «Связывание» возможно также при реализации государствами-донорами целевых проектов через международные организации.
4 Характерным примером такого рода исследовательской программы может служить проект «Лидерство США в области развития», реализуемый во влиятельном вашингтонском Центре стратегических и международных исследований (Center for Strategic and International Studies, CSIS; организация признана нежелательной на территории РФ) с 2011 г., и финансируемый нефтяным гигантом Chevron.
5 Так, например, в 2020–2023 фин. гг. на страхование политических рисков пришлось 35% всех доходов Американской корпорации финансирования международного развития (около 600 млн долл.). Расходы же составили лишь 95 млн долл. (порядка 9,6%), из которых 45 млн долл. — страховые выплаты в связи с эскалацией конфликта на Украине в 2022 г. [US International Development Finance Corporation 2023. P. 81].
6 Запущена на министерской конференции в Гонконге в декабре 2005 г.
7 См. опубликованный нами ранее обзор зарубежных исследований подобного плана, содержащих результаты применения различных техник анализа и опубликованных до 2023 г. включительно [Бартенев 2023a], а также новейшие публикации, оценивающие каталитический эффект ОПР и рассматривающие в качестве переменных в том числе показатели странового риска (например, [Bertrand and Betschinger 2024]).
8 По состоянию на 2022 г., в «нестабильных контекстах» (fragile contexts) проживало 24% мирового населения, но почти 73% людей в состоянии крайней нищеты, причем до 2030 г. этот показатель, по прогнозам, вырастет до 86% [OECD 2022b].


.jpg)