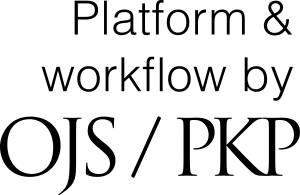К теории «мальтузианской ловушки». Часть 1
[To read the article in English, just switch to the English version of the website.]
Мозиас Пётр Михайлович — к.э.н., ведущий научный сотрудник отдела Азии и Африки ИНИОН РАН, доцент департамента мировой экономики НИУ ВШЭ.
SPIN-RSCI: 6521-0099
ORCID: 0000-0003-0199-2753
Researcher ID: L-6066-2015
Scopus Author ID: 57196746604
Для цитирования: Мозиас П.М. К теории «мальтузианской ловушки». Часть 1 // Современная мировая экономика. Том 1. 2023. № 3 (3).
Ключевые слова: традиционное общество, «мальтузианская ловушка», редистрибуция, протопромышленность, общественно-экономическая формация.
Аннотация
Современная историко-экономическая наука утверждает, что вплоть до начала Промышленной революции в конце XVIII в. экономический рост в мире был крайне медленным и неустойчивым. Данная статья прослеживает, как усилиями многих экономистов и историков постепенно складывается концепция «мальтузианской ловушки», призванная объяснить многовековое пребывание аграрного общества в относительной стагнации. Применительно к традиционным экономикам клиометрические исследования в целом подтверждают идеи Т. Мальтуса о компенсации позитивного влияния технологического прогресса на подушевой доход приростом населения. Современные ученые дополняют их анализом социальной структуры общества, находящегося в «мальтузианской ловушке», присущих ему институтов редистрибуции, происходивших в те времена периодических расцветов и упадков протопромышленности и торговли. В статье показана логическая взаимосвязь этих элементов в рамках мальтузианского династийного цикла. Проводится сопоставление концепции «мальтузианской ловушки» с марксистским видением исторического процесса. Показано, какие позитивные наработки марксистского подхода могут быть имплантированы в современную теорию.
Введение
Для современного человека экономический рост — это не фигура речи, а нечто вполне осязаемое. Устойчивое увеличение своих доходов люди воспринимают не просто как желательный, а как естественный процесс, и в случае отклонения от этой нормы они склонны предъявлять претензии власть имущим. Более того, на среднесрочных (20–30 лет) временных интервалах не просто происходит повышение уровня доходов, а меняется сам образ жизни, чему способствуют технологические инновации. Отсутствие таких изменений считается признаком стагнации, застоя в развитии.
Отсюда вполне понятное искушение распространить такое восприятие действительности и на прошлое, рассматривать всю историю человечества как череду прогрессивных изменений. Возможно, в России подобные взгляды укоренились прочнее, чем где бы то ни было, ввиду долгого пребывания массового сознания в лоне марксистской парадигмы. Она, как известно, выделяет в истории ряд последовательных стадий (общественно-экономических формаций), в рамках которых сдвиги в технологиях (производительных силах) вызывают трансформацию институтов (производственных отношений), и это в конце концов путем социальной революции выводит общество на качественно более высокий уровень, т.е. осуществляется переход к более развитому состоянию (новой формации). Утверждается, что такие смены формаций происходили в истории несколько раз.
Но следует сказать, что современной историко-экономической наукой подобные выкладки в общем и целом не подтверждаются. За последние десятилетия эта сфера знания стала не менее математизированной, чем другие отрасли экономической науки. Благодаря усилиям экономических историков и прежде всего Э. Мэддисона мы располагаем теперь ретроспективными динамическими рядами макроэкономических показателей за период начиная с 1 г. н. э. И они не подтверждают гипотезу о линейном поступательном движении с резкими ускорениями, которые могли бы свидетельствовать о множественной смене стадий развития.
1. Постановка проблемы
Согласно расчетам Мэддисона, на протяжении первых полутора тысячи лет нашей эры темпы прироста абсолютного ВВП в большинстве стран оседлой, земледельческой цивилизации не превышали в среднем 0,2–0,3% в год. Причем в 1–1000 гг. они по миру в целом составляли всего 0,01% в год, а в Западной Европе были и вовсе отрицательными. Они лишь на сотые доли процентного пункта превышали темпы прироста населения (а население мира за 1–1000 гг. увеличилось незначительно – с 225,8 млн чел. до 267,3 млн чел.).
Иными словами, валовый объем производства в стране и численность проживавших там людей росли почти что одинаковым темпом. Как следствие, подушевой ВВП увеличивался крайне медленно (а динамика экономического роста, строго говоря, определяется изменениями именно этого показателя, а не общей величины ВВП). За 1–1000 гг. он не вырос почти нигде в мире, а в 1000–1500 гг. темп его прироста в отдельных странах достигал в лучшем случае 0,1% в год. Разница между странами в показателях подушевого ВВП (и, соответственно, в уровне жизни), конечно, существовала всегда. Но вплоть до 1500 г. она не была драматичной, не измерялась разами, это касалось и стран, предположительно пребывавших в разных формациях (скажем, стран Западной Европы, с одной стороны, и обществ Востока – с другой) [Мэддисон 2015].
Таким образом, общим для всего мира традиционных, аграрных экономик было многовековое пребывание в относительной стагнации, а не последовательное восхождение от низших ступеней развития к высшим. Обобщая свои наблюдения по этому поводу, авторитетный специалист по истории технологий Дж. Мокир отмечал, что в контексте всей истории человечества эпизоды научно-технического прогресса выглядят не как правила, а как исключения, которые возникали, когда в результате редкого стечения обстоятельств нарушалась обычная тенденция обществ к сползанию в застойное равновесие [Мокир 2014].
Тем разительнее контраст с событиями последних двух с половиной веков. Правда, некоторое ускорение экономического роста в Западной Европе началось, по данным Мэддисона, еще около 1000 г., но на протяжении последующих восьми столетий оно было сугубо постепенным1. Темпы прироста ВВП в этом регионе стали устойчиво превышать отметку в 1% в год только после 1820 г., что обычно связывают со структурными изменениями в экономиках, которые принято называть «Промышленной революцией». Возникла принципиально новая ситуация, когда темп прироста ВВП устойчиво и заметно превышает темп прироста населения, а в результате происходит и стабильное увеличение подушевого ВВП (или, как еще говорят, подушевого дохода). Подобный процесс принято называть «современным экономическим ростом» (СЭР).
Первый очаг СЭР возник в зоне евроатлантической цивилизации, но затем его импульсы стали распространяться по миру. Достигнутый на такой основе многими странами рост благосостояния тем более примечателен, что в течение XVIII–XX вв. резко ускорился и прирост мирового населения: в 1700 г. оно составляло 603,2 млн чел., в 1820 г. – 1041,7 млн чел., в 1913 г. – 1791,1 млн чел., а в 2003 г. – 6278,6 млн чел. Если не вдаваться в конкретную динамику демографических процессов в отдельных странах, а говорить о мире в целом, то можно утверждать, что население выросло в большей степени не за счет увеличения рождаемости, а благодаря снижению смертности. Так, в странах Запада ожидаемая продолжительность жизни новорожденного увеличилась с 36 лет в 1820 г. до 76 лет в 2003 г., а в остальном мире она выросла за этот период с 24 до 63 лет [Мэддисон 2015].
Тем не менее, именно в условиях СЭР произошло «Великое расхождение» (Great Divergence): мир очевидным образом раскололся на преуспевшие и отсталые страны, неравенство подушевых ВВП и различия в уровнях жизни достигли невиданных ранее значений. По данным О. Галора, соотношение подушевых доходов в самом богатом и самом бедном регионах мира составляло в 1000 г. лишь 1,1:1; в 1500 г. – 2:1; в 1820 г. – 3:1. Но к 1870 г. оно увеличилось до 5:1; к 1950 г. – до 15:1; а к 2001 г. – до 18:1 [Galor 2005]. Так что у кого-то СЭР получается лучше, а у кого-то – хуже.
Механизм перехода от стационарного, застойного состояния к СЭР – это одна из самых обсуждаемых, а можно сказать, что и ключевая проблема в теории экономического развития (development economics), отрасли экономической науки, зародившейся после Второй мировой войны. Обобщая опыт и экономической истории развитых государств, и современных развивающихся стран, теория по идее должна вырабатывать для последних рекомендации по осуществлению экономической политики.
Но ввиду нерешенности фундаментальных вопросов теория экономического развития все еще остается наукой без парадигмы. В ней сосуществует некоторое количество школ, мало в чем согласных друг с другом, и это сильно затрудняет выполнение ею своей практической функции. В настоящей статье прослеживается, как, благодаря дискуссиям специалистов, в теории экономического развития и историко-экономической науке постепенно складывается концепция, описывающая закономерности, присущие традиционному, доиндустриальному обществу, выявляются отличия этой концепции от марксистской парадигмы.
2. В лабиринте традиционного общества
Основоположник марксизма и его последователи не жалели язвительных эпитетов по поводу взглядов Т. Мальтуса, которые они рассматривали не только как лженаучные, но и как человеконенавистнические. Но, признавая за марксистами право на их точку зрения, следует сказать, что в современной мировой экономической науке отношение к Мальтусу весьма уважительное. Считается, что он верно описал основные закономерности, присущие традиционным обществам, хотя и сделал это в историческое время на рубеже XVIII–XIX вв., когда обрисованные им тренды стали уходить в прошлое.
Стагнационное состояние, предшествовавшее СЭР, обычно и называют «мальтузианским» («мальтузианской ловушкой»). Впрочем, это вовсе не означает, что представления Мальтуса воспринимаются современной наукой как абсолютная истина. Его изначальная модель подверглась в теории развития значительным модификациям, в том числе и благодаря тому, что она была многократно проверена на фактических материалах с использованием эконометрических методов.
Мальтус исходил из реалий привычного ему сильно стратифицированного, преимущественно аграрного общества, где большая часть населения жила в бедности. Логика его рассуждений отталкивалась от того, что людям свойственны естественные стремления к продолжению рода (выживанию в биологическом смысле) и получению материальной и психологической полезности от детей, которые воспринимаются людьми как одна из жизненных ценностей. Отсюда вытекало, что в обществе всегда присутствует тенденция к поддержанию высокой рождаемости. Но она ограничивается объемом доступных ресурсов (в сельскохозяйственных обществах – прежде всего ресурсов земельных).
К тому же из-за широко распространенной бедности и неразвитости здравоохранения в таких обществах высока смертность. Однако рост населения в них продолжится, пока обострение ресурсных ограничений не приведет к тому, что по мере демографической экспансии подушевой доход будет снижаться. В конце концов он будет сведен к прожиточному минимуму, так что дальнейшее его уменьшение создаст риски увеличения смертности и вымирания людей. Впрочем, уже возникшая перенаселенность может быть преодолена и за счет действия механизма, который Мальтус назвал «естественными препятствиями» (positive check): конкуренция за ресурсы будет провоцировать социальные конфликты, внутренние и внешние войны, восстания; скученность людей на ограниченных территориях облегчит распространение болезней – все это приведет к убыли населения.
Ситуация может измениться на какое-то время благодаря вводу в сельскохозяйственный оборот дополнительных земельных площадей и/или появлению новых, более совершенных технологий. Подобные позитивные шоки действительно могут привести к росту подушевого дохода и уровня жизни. Но вслед за этим увеличится рождаемость, подушевая обеспеченность земельными ресурсами снизится, и прирост населения в конце концов обесценит произошедшее приращение зарплат и других доходов непривилегированных социальных слоев. Подушевой доход вернется к долгосрочному равновесному уровню, близкому к прожиточному минимуму, хотя это произойдет и при более высоком, чем раньше, уровне технологий.
Возможен и такой вариант, когда рост смертности (например, в результате эпидемии) тоже вызовет увеличение подушевого дохода. Но и оно сойдет на нет по мере постэпидемийного роста населения. В целом, в изначальной, так называемой абсолютной версии мальтузианской модели предполагалось, что рождаемость и смертность в конечном счете уравновесят друг друга и рост населения станет минимальным после того, как оно заполнит все доступные в стране земельные площади. Несмотря на возможные флуктуации, общество балансирует вокруг одного и того же уровня благосостояния [Мальтус 2022].
В первом приближении все это вполне соответствует долгосрочным макротенденциям, выявленным Мэддисоном. Логика мальтузианской модели помогает понять и различия в демографическом потенциале отдельных стран как в прошлом, так и в настоящем. Ведь из нее вытекает, что технологически более развитая страна будет иметь не более высокий уровень жизни, чем в других странах, а большую, чем у них, численность населения. Соответственно, сложившееся еще в Средние века первенство Китая по числу жителей подтверждает, что именно эта страна в течение долгого времени удерживала за собой мировое технологическое лидерство. Но различия между странами в уровне жизни до 1800 г. были незначительными, хотя между ними и существовали большие технологические разрывы.
А то, что мальтузианское видение действенно как раз применительно к аграрным обществам, вполне корреспондирует с аксиомами современной микроэкономической теории, которая утверждает, что если запасы какого-либо фактора производства фиксированы в объеме, то отдача от масштаба при использовании других факторов будет склонна к убыванию. В данном случае речь идет о том, что при заведомой ограниченности обрабатываемых сельскохозяйственных площадей (земельных ресурсов) предельный продукт труда будет уменьшаться со временем, а поэтому и подушевой доход будет снижаться по мере роста населения. Отсюда следует, что именно сосредоточение рабочей силы и других факторов производства в сельском хозяйстве и является фундаментальной причиной слабости и неустойчивости экономического роста в традиционных обществах.
Вослед предсказаниям Мальтуса о периодическом возникновении «избыточного» населения многие представители современной теории развития указывали на хроническое недоиспользование трудовых ресурсов в традиционных экономиках. У.А. Льюис связывал его с тем, что в деревнях ввиду перенаселенности земельные участки бывают слишком малы, такой участок может обработать и только часть крестьянской семьи. А в городах многие занятые в сфере услуг перебиваются случайными заработками или бездействуют большую часть рабочего дня (как мелкие торговцы, совершающие за день всего несколько сделок) [Lewis 1954].
Р. Нелсон, который первым формализовал описание «мальтузианской ловушки» в виде системы уравнений, писал, что находящиеся в ней экономики характеризуются недоиспользованием не только рабочей силы, но и запасов капитала (к которым он относил и землю). Объем производства в таких экономиках можно было бы нарастить просто за счет более полного задействования имеющихся ресурсов, даже без применения новых технологий [Nelson 1956].
Дж. Мокир особо отмечал, что неполное использование рабочей силы в традиционных аграрных обществах нельзя уподоблять вынужденной безработице в капиталистических экономиках (т.е. ситуации, когда для желающих трудиться не создается достаточного числа рабочих мест из-за нехватки совокупного спроса на товары и услуги). Причины неполной занятости в традиционных экономиках другие, это значительные сезонные перепады спроса на труд и высокие транспортные издержки, которые затрудняли трудовую миграцию. Так что это скорее похоже на фрикционную безработицу [Mokyr 1977].
Тем не менее, результаты более основательных, эконометрических проверок релевантности мальтузианской модели неоднозначны. В большинстве работ экономических историков подтверждается, что вслед за увеличением доходов в традиционных обществах возрастала и численность населения. Но среди исследователей нет единодушия по поводу того, насколько эластичным был рост населения (т.е. рост спроса на детей, предъявляемого домохозяйствами) по доходу.
Дж. Мэдсен, П. Робертсон и Е. Лунфэн обсчитали данные по 16 европейским странам и Японии за 900–1870 гг. и пришли к выводу, что «абсолютная» версия мальтузианской модели вполне реалистична. Прирост зарплат, происходивший вследствие технологических инноваций или расширения пахотных площадей, уже в течение 10 – 30 лет (т.е. на протяжении активной жизни одного поколения) гасился ответными демографическими процессами, и подушевой доход возвращался к уровню долгосрочного равновесия [Madsen, Robertson and Ye 2019].
Однако гораздо больше таких работ, где утверждается, что реакция численности населения на прирост доходов была, но слабая. Обратное схождение зарплат, выросших благодаря технологическим улучшениям, к предсказанному Мальтусом равновесному уровню могло занять несколько столетий (до трех веков) [Crafts and Mills 2009; Lee and Anderson 2002]. Иначе говоря, мальтузианские закономерности проявлялись, но с отклонениями и на очень длительных временных промежутках.
А если принять во внимание статистику Мэддисона и его коллег, согласно которой и подушевой ВВП, и численность населения в долгосрочном плане все же росли, пусть и очень медленно, то более реалистичной представляется «относительная» версия мальтузианской модели. Смысл ее в том, что в традиционных обществах действуют определенные механизмы движения к равновесию (т.е. факторы роста доходов уравновешиваются контртенденциями, и результаты их взаимодействия не являются предопределенными), а сведение подушевого дохода к прожиточному минимуму – это только предельный случай, редко наблюдаемый в реальности.
Т. Люгер, исследователь и пропагандист творчества Мальтуса, утверждает, что так это понимал и сам классик: периодический возврат подушевого дохода к уровню физического выживания он рассматривал как вероятность, а не как жесткую закономерность. Речь идет всего лишь о выведенной дедуктивным образом абстрактной логической связи, от которой может отталкиваться анализ действительности. В жизни такая связь может реализоваться, а может и нет, и сам Мальтус обрисовал, что способно этому помешать: он писал не только о «естественных препятствиях» (positive check), т.е. об увеличении смертности, но и о «превентивных мерах» (preventive check), т.е. контроле над рождаемостью [Lueger 2018].
Экономическими историками установлено, что такие практики в средневековых обществах на самом деле существовали. Н. Фойтландер и Г.И. Фотх утверждают, что устойчивый рост подушевого дохода возможен и при действии мальтузианских механизмов, именно так и происходило в Западной Европе в XIV–XVIII вв. [Voightlander and Voth 2009]. Убыль людей из-за эпидемии чумы («Черной смерти») конца 1340-х годов по отдельным странам составила от 1/3 до 1/2 населения, после этого доходы выросли, что, в свою очередь, привело к расширению спроса на продукцию городского ремесла. Причем из-за политической раздробленности Европы там велись бесконечные войны, а подъем городов предоставил монархам дополнительные фискальные возможности для содержания армий.
В результате смертность постоянно была большой – не только вследствие собственно военных потерь, но и из-за связанных с войнами эпидемий и разрушений базы сельскохозяйственного производства2. Иначе говоря, войны и моровые поветрия сами были во многом следствиями произошедшего роста доходов. Но они, в свою очередь, породили высокую смертность, которая ослабляла антропогенное давление на ограниченные земельные ресурсы. Подушевой доход поддерживался на уровне более высоком, чем до «Черной смерти», и объяснение этому у Фойтландера и Фотха, как несложно заметить, вполне мальтузианское.
Наиболее обсуждаемый в литературе пример «превентивных мер» — это брачная практика, сложившаяся в Западной Европе в позднее Средневековье. Можно считать доказанным, что на территориях к западу от условной линии «Санкт-Петербург – Триест» женщины вступали в первый брак сравнительно поздно (обычно в возрасте 24–26 лет), значительная часть женщин (от 10 до 25% в отдельных странах) всю жизнь оставалась незамужними, а число внебрачных рождений было очень невелико (3–4% всех появлявшихся на свет детей) [Кембриджская экономическая история Европы Нового и Новейшего времени 2014].
Есть разные точки зрения на то, когда и почему сложилась такая модель брачности. Я. де Фрис связывает ее появление с тем, что функцию социальной защиты в Западной Европе еще в Средние века выполняли церковь и община, а не расширенная семья [де Фрис 2016]. Н. Фойтландер и Г.И. Фотх считают, что эта модель возникла к середине XV в., когда после эпидемии «Черной смерти» увеличились доходы и поэтому стал расти спрос на такие товары, как мясо, сыр, шерсть, продукция городских ремесленных промыслов. В условиях относительного дефицита рабочей силы в производившие эти товары отрасли стали нанимать все больше женщин, и те стали откладывать замужество [Voightlander and Voth 2009].
Понятно, что в условиях западноевропейской модели сколько бы детей ни рождалось в семьях, в обществе все равно действовали определенные ограничители фертильности. По мнению Г. Кларка, результатом опосредованного контроля над рождаемостью было то, что в экономиках, находившихся в «мальтузианской ловушке», подушевой доход был намного выше уровня, нужного для физического выживания, – просто потому, что рождаемость не поднималась до биологически возможных значений [Кларк 2013]3. Фактически развивая эту мысль, Н. Фойтландер и Г.И. Фотх констатируют, что «превентивные меры» позволяли стабилизировать подушевой доход без разрушительных последствий для потенциала экономического роста, тогда как «естественные ограничения» (голод, стихийные бедствия и социальные потрясения) были чреваты безвозвратными потерями ресурсов, в том числе и людских [Voightlander and Voth 2005].
Формализуя «относительную» версию, модели «мальтузианской ловушки», разработанные в первые десятилетия XXI в., предусматривают возможность сдвига вверх равновесных точек подушевого ВВП и численности населения под влиянием технического прогресса [Madsen, Robertson and Ye 2019] или же возможность достижения равновесия при превышении рождаемости над смертностью и росте зарплат по сравнению с тем уровнем, который был до технологических нововведений [Crafts and Mills 2009].
Но общим недостатком многих моделей остается то, что традиционное общество описывается ими с помощью понятий, обычно применяемых при исследовании современных рыночных экономик, т.е. по сути без определения его институциональной специфики. Примечательна в этом плане концепция О. Галора. Он поставил перед собой похвальную задачу показать и мальтузианское состояние, и СЭР как следующие одна за другой стадии единого процесса экономического роста. Галор учитывает в модели, что уже в пределах традиционной экономики с определенного момента подушевой доход начинает превышать «мальтузианский фронтир» (уровень физического выживания), т.е. появляется прибавочный продукт. Но при этом Галор сознательно абстрагируется от прав собственности на землю и предполагает нулевой уровень земельной ренты.
Иными словами, проблематику социальной структуры традиционного общества и распределения доходов между его «верхами» и «низами» (редистрибуции, если пользоваться термином К. Поланьи) Галор вообще не затрагивает. Как следствие, в его описании мальтузианское состояние похоже то ли на затянувшуюся первобытность, то ли на мир атомизированных сельских домохозяйств-товаропроизводителей, причем они мыслят такими категориями, как «уровень зарплат», «возможности получения образования» и т.д. [Galor 2005].
Но есть и исследователи, рассуждающие по-другому. К. Тисделл и С. Свиззеро рассматривают традиционное общество как такое, где крестьянское большинство жило примерно на уровне прожиточного минимума (как и предполагает теория Мальтуса), а прибавочный продукт в форме земельной ренты изымался у крестьян немногочисленными аристократическими элитами, которые специализировались на управленческих и силовых функциях. Тисделл и Свиззеро подчеркивают, что для общества, находящегося в «мальтузианской ловушке», глубокое социальное неравенство – это необходимый атрибут. Ведь прекращение изъятий ренты и соответствующее увеличение доходов крестьян привели бы к увеличению рождаемости среди них и росту населения, а вслед за этим – к новому снижению крестьянских доходов до стационарного уровня. Прибавочный продукт тогда просто исчез бы как таковой, он растворился бы среди увеличившегося населения.
Между тем как раз благодаря изъятиям прибавочного продукта в мальтузианском обществе имели место технологические инновации и экономический прогресс: возводились ирригационные и другие сложные инфраструктурные объекты, шла урбанизация, накапливались научные знания. Выглядело это так, что господствующий слой, удовлетворив свои потребительские аппетиты и нужды обороны, превращал часть рентных доходов в инвестиции – с расчетом на приращение прибавочного продукта в будущем4. Так что социальное неравенство выступало не просто как следствие различий в индивидуальных способностях людей (к управлению, специализации на насилии и т.д.), но и как источник пусть медленного, но развития традиционной экономики5.
Условие нормального функционирования такой редистрибутивной системы – это поддержание баланса между численностью населения и земельными ресурсами с помощью «естественных препятствий» и «превентивных мер». Причем, полагают Тисделл и Свиззеро, функции и тех, и других выполняли сами по себе изъятия земельной ренты. Численность «управляемого класса» удерживалась от чрезмерного увеличения тем, что «управляющий класс» лишал «низы» возможностей повысить их уровень благосостояния. А это приводило не только к высокой детской смертности, но и к вымиранию стариков и вообще тех, кто так или иначе был лишен элитами средств существования [Tisdell and Svizzero 2015].
Нарушение же равновесия между трудовыми ресурсами и земельным фондом, т.е. возникновение сильной перенаселенности, выступало как фундаментальная причина периодических кризисов общества, основанного на редистрибуции. Земельные наделы мельчали, доходы крестьян падали, а взимание с них налогов и частнопомещичьей ренты тем более толкало крестьян к грани физического существования. В случае неурожая страну поражал голод. Значительная часть населения уже вообще не могла найти себе занятий в сельском хозяйстве, прокормиться с земли6. Но кризис затрагивал также и неаграрные отрасли экономики, как и связанную с ними сферу товарно-денежных отношений.
Вообще говоря, привычная аналитическая схема «Отделение ремесла от земледелия порождает торговлю, а для ее обслуживания появляются деньги», может быть, и годится как общая концептуальная рамка, но она нуждается в многочисленных уточнениях. К. Поланьи еще в 1940–1950-е гг. показал, что товарный обмен возникал изначально как торговля на дальние расстояния (межгосударственная или межрегиональная), т.е. не внутри отдельных общностей, а там, где они соприкасались друг с другом. Мотивацией к торговле было не извлечение прибыли, а интерес к товарам, которые могли быть получены только издалека, это был интерес к импорту [Polanyi 1957]. Тисделл и Свиззеро уточняют, что это были прежде всего товары для престижного потребления элит, их ввоз должен был подчеркнуть высокий статус и сакральную роль власть имущих [Tisdell and Svizzero 2015].
Такая торговля была по преимуществу делом не индивидов, а групп или корпораций, уполномоченных на то властями. Экспортом, балансирующим импорт, становились блага, которые «верхи» общества получали с подданных в порядке уплаты налогов или частновладельческой земельной ренты. Так что внешняя торговля по существу велась только теми товарами, которые были определены для этого государством.
Что же касается денег, то вызревание отдельных их функций происходило с разной скоростью. Деньги как мера стоимости появились из-за необходимости контролировать расход продовольственных запасов и других натуральных продуктов, собиравшихся в процессе редистрибуции, и для соизмерения ценности различных продуктов, которыми уплачивались налоги. Тем самым создавались и условия для финансирования различных госпроектов (например, ирригационных) в виде как натуральных, так и денежных выплат.
Деньги как средство обращения зародились вследствие необходимости осуществлять ряды не связанных друг с другом операций. Но потребность эта исторически проявилась не в ходе стихийного бартерного обмена индивидуальных частных контрагентов, а во внешней торговле, организованной государствами. Деньги же как средство платежа возникали только тогда, когда складывались длинные цепочки взаиморасчетов (иначе взаимные обязательства можно было бы погашать и натуральными выплатами). Причем такие обязательства могли быть связаны не с товарными сделками, а с уплатой налогов и частной земельной ренты [Polanyi 1957].
В свою очередь, ремесло и внутренняя торговля зарождались не просто потому, что рано или поздно начинался естественный процесс специализации: сама она во многом была следствием демографических процессов. В современной историко-экономической литературе практически общепризнано, что очаги неаграрной деятельности складывались прежде всего в перенаселенных местностях.
С 1970-х годов для обозначения дофабричных форм индустриальной организации историки стали использовать термин «протопромышленность». Надо сказать, что введший его в оборот Ф. Менделс придавал ему сравнительно узкий смысл. Имелась в виду работа сельских надомников, которую организовывал городской купец-предприниматель. Он обеспечивал надомников не только заказами, но и сырьем для их выполнения, т.е. это было то, что в российской литературе обычно называют «рассеянной мануфактурой».
По мнению Менделса, подчиненность городскому торговому капиталу и сбыт продукции за пределами региона производства, а часто и вне национальных границ – это то, что отличало протопромышленность от традиционного сельского ремесла, которое удовлетворяло местные нужды. Специфика и в том, что существовала взаимосвязь между протопромышленностью и коммерческим сельским хозяйством. Внутри регионов в каждой деревне были хозяйства, специализировавшиеся на промышленных изделиях, и хозяйства, производившие излишки продовольствия, которые они сбывали на рынке. А была и специализация регионов. В одних крестьяне, не способные прокормить себя с небольших земельных участков, изготавливали промышленные изделия и нанимались на сезонные работы в крупных хозяйствах. В других регионах культивировалось в основном земледелие.
Менделс отталкивался от архетипов протопромышленности, возникавших в странах Западной Европы в XVI–XVII вв. Но он считал их появление началом особой стадии развития («протоиндустриализации»), которая была присуща всем регионам мира. Она, по Менделсу, подготовила условия для последующей Промышленной революции (через накопление капиталов, технологических и управленческих знаний; формирование рынков и т.д.) [Mendels 1972].
Именно сочетание претензий на универсализм, с одной стороны, и высокой степени конкретизации – с другой, сделало концепцию Менделса и его последователей уязвимой для критики. Концепция тавтологична потому, что уже в базовых определениях протопромышленности фактически заложены отсылки к последующему более развитому, зрелому состоянию экономики: протоиндустриализации заведомо приписываются черты индустриализации – того, что было потом (симбиоз с коммерческим сельским хозяйством, связь с городским бизнесом, региональная специализация, выход на внешние рынки).
На уровне фактологии под сомнение могут быть поставлены даже сами хронологические рамки протоиндустриализации в Европе, установленные Менделсом. По идее, опыт Англии должен подтверждать его правоту лучше, чем какой-либо другой. Но историки приводят свидетельства, что в Англии сельские текстильные производства, ориентированные в том числе и на зарубежные рынки, появились еще в XIII в., а в последующие шесть веков они переживали то подъемы, то упадки. Факты говорят и о том, что автоматизма в движении от протоиндустриализации к собственно индустриализации не было. Некоторые европейские регионы, где была распространена сельская протопромышленность, испытали деиндустриализацию после того, как в соответствующих странах произошла Промышленная революция [Coleman 1983].
Понимая под протопромышленностью сельское надомничество, концепция Менделса вообще оставила без внимания городскую централизованную мануфактуру, даже не обсуждался вопрос о связи этих двух феноменов. Между тем, если выйти за европейские пределы и обратиться к экономической истории Китая, то выяснится, что там и сельские товарные промыслы, и городское ремесло, и многообразный сектор централизованных мануфактур на протяжении буквально тысячелетий то расцветали, то угасали, а Промышленной революции не происходило.
Выходом из этих гносеологических затруднений может быть реинтерпретация термина «протопромышленность» за счет его расширения на городские ремесленные и мануфактурные производства, по крайней мере – на работавшие на рынок (безусловно, с учетом того, что развитие шло от простых, ремесленных форм дофабричной промышленности к более сложным, мануфактурным). Можно сказать, что такое понимание протоиндустриализации уже сложилось в литературе спонтанно.
Что же касается связи ремесла с торговлей, то она вообще не была автоматической: она возникала не сразу, но усиливалась со временем. Т. Люгер в объяснении того, как исторически отпочковывались от земледелия различные виды индустриальной деятельности, проводит аналогии между миром людей и миром животных. В условиях перенаселенности индивиды, чувствовавшие себя излишними, уходили в новые сферы, дабы обеспечить себе ниши для выживания. Не все такие попытки были удачными, но успешные случаи увеличивали производственный потенциал общества. У добившихся своего инноваторов рождалось много детей, а это делало вероятными и даже неизбежными новые попытки специализации [Lueger 2018].
Трактовка развития протопромышленности К. Померанцем просто указывает на то, что в районах с высокой плотностью населения и обусловленными ею низкими доходами люди нуждались в подработках, они трудились не только на земле, но и в ремесле [Померанц 2017]. Но контраргументы к такому объяснению приводил еще в 1980-е годы Д. Коулман, который обратил внимание на то, что в Англии XIII–XVII вв. подъемы протопромышленности случались и когда крестьянские доходы росли, и когда они падали [Coleman 1983].
К. Тисделл и С. Свиззеро уточняют: выделение ремесла и концентрация его в городах не приводили к быстрому оживлению торговли потому, что ремесленники в основном обслуживали власть имущих. Чем более выраженной была специализация ремесла, тем больше ее участники зависели от вертикальных, а не горизонтальных социальных связей. Но со временем товарно-денежный обмен прогрессировал [Tisdell and Svizzero 2015].
Э. Бозеруп связывала это с тем, что по мере перехода к трудоемкому земледелию (сокращения, а затем и ликвидации периодов выведения земли под пар и, вследствие этого, заполнения пространств между деревнями) формировались условия для возникновения малых городов-рынков. Раньше поставки продовольствия в города были нерациональными из-за слишком больших транспортных издержек. А с ростом плотности населения становилось выгодным коммерческое сельское хозяйство со сбытом на городских рынках. Иначе говоря, для части населения вопрос продовольственного снабжения стал решаться по-новому: эти люди были заняты в ремесле, сами они продовольственные культуры не выращивали, а получали их в рамках товарного обмена. Условия же для этого создавались укорачиванием «транспортного плеча» между производством и потреблением продовольствия [Boserup 1975].
Сам же Ф. Менделс видел первопричину протоиндустриализации в сезонности сельхозработ, так что функцией протопромышленности, по его мнению, было сглаживание дисбалансов в занятости крестьян в течение года. Но он признавал, что работавшие в протопромышленности были самой обездоленной частью крестьянства, обычно это были люди, у которых не хватало земли для того, чтобы обеспечить нормальное существование своей семье после уплаты ренты и налогов.
В целом, причинно-следственные связи в трактовке Менделса выглядят так. Протопромышленность появлялась в ответ на сезонные колебания спроса на труд в сельском хозяйстве, как средство занять свободную рабочую силу. Поэтому ее развитие было особенно вероятно в перенаселенных районах, где проблемы с рабочими местами были острее, но там был и сравнительно велик спрос на промышленные изделия. В краткосрочном плане получение работниками зарплат в протопромышленности могло вызвать увеличение подушевого дохода. Но вслед за этим больше становилась рождаемость, что толкало подушевой доход к прежнему уровню. А произошедший дополнительный рост населения тем более требовал новой экспансии протопромышленности, и дешевизна рабочей силы создавала для этого благоприятные предпосылки [Mendels 1972].
Прогресс протопромышленности в мальтузианских обществах временами был впечатляющим: ремесло становилось диверсифицированным, создавались мануфактуры с тысячами работников, рыночные отношения пронизывали практически все общество, в том числе происходила коммутация налогов и ренты. На этой основе экономики могли переживать эпизоды смитианского роста – такого, при котором выгоды от специализации обеспечивают повышение производительности и снижение издержек, а подушевой доход увеличивается и при росте населения.
М. Келли объяснил, почему такой рост был не постепенным, а взрывным. Пока не достигалась высокая плотность горизонтальных связей, экономика была фактически раздроблена на множество обособленных региональных рынков. Но когда они интегрировались, то возможности для специализации резко увеличивались, это и приводило к скачкообразному ускорению экономического роста (хотя логика здравого смысла вроде бы подсказывает, что установление рыночных связей идет постепенно, а значит, и смитианский рост по определению медленный) [Kelly 1997].
Представитель «калифорнийской школы» Дж. Голдстоун называет такие периоды экономического роста в традиционных обществах «расцветами» (efflorescences). Но он уточняет, что смитианский рост – пульсирующий, асимптотический, он не был связан с принципиальными технологическими улучшениями, поэтому выгоды от него были скромные7. Они быстро уравновешивались ростом населения, а сам смитианский рост был недолговечным, он обрывался, когда исчерпывались возможности расширения торговли [Goldstone 2002].
По словам К. Померанца, мальтузианская экономика рано или поздно заходила в «протопромышленный тупик». Логика здесь следующая. Протоиндустриализация шла прежде всего там, где уже была велика плотность населения, а развитие протопромышленности приводило к росту спроса на сельскохозяйственное сырье для производства индустриальных изделий. Как следствие, внутри сельского хозяйства обострялась конкуренция за земельные ресурсы между продовольственным растениеводством, выращиванием технических культур для переработки в протопромышленности и лесоводством (древесина в те времена использовалась и как материал для обработки, и как энергоресурс). Интенсификация использования земель и сведение лесов достаточно быстро приводили к тяжелым экологическим последствиям, из-за них производительность сельского хозяйства дополнительно снижалась, обострялся дефицит продовольствия, ухудшались структура питания и здоровье людей.
Но возможность получения зарплат в неаграрных сферах деятельности на какое-то время способствовала еще большему росту населения в сельской местности, а от этого в конечном счете усиливалась тенденция к падению подушевого дохода. По мере того, как рос спрос на сырье для протопромышленности или же увеличивался спрос на продовольствие для растущего населения, динамика цен на продовольствие и другие сельскохозяйственные товары обгоняла динамику зарплат, и в результате происходило еще большее обнищание.
В конечном счете под влиянием нараставшего дефицита естественных ресурсов условия торговли (соотношение цен на продукцию аграрного сектора, с одной стороны, и протопромышленности – с другой) менялись в пользу сельского хозяйства, и неаграрные производства становились нерентабельными. Ремесленная и мануфактурная деятельность приходила в упадок и сворачивалась [Померанц 2017].
Получается, что протоиндустриализация и маркетизация экономики сами по себе не помогали разрешить периодически случавшиеся кризисы редистрибутивного общества, а, наоборот, усугубляли их8. Колебания численности населения, обеспеченности его земельными ресурсами и подушевого дохода дополнялись «пульсирующими» расширениями и сжатиями протопромышленности и торговли. Хотя это и похоже на подготовку условий для становления индустриального, рыночного хозяйства, но на деле перевода экономики и общества в качественно новое состояние не происходило9.
К. Тисделл и С. Свиззеро считают, что социально-экологический кризис мальтузианского общества превращался в социально-политический, когда нарушалось еще одно условие равновесия системы. Численность элит в норме сдерживалась от увеличения эндогенными (принцип знатности) и экзогенными (войны, государственные репрессии) ограничениями. Если же «управляющий класс» становился все больше и при этом привыкал к роскоши и расточительности, рентные доходы перераспределялись в пользу его престижного потребления, то экономика недоинвестировалась, резервы повышения производительности исчерпывались, а это сказывалось на возможностях извлечения прибавочного продукта.
В попытках стабилизировать фискальные изъятия элиты завышали налоги с крестьян, и без того балансировавших на грани выживания. Но ресурсы для силового доминирования у правящего слоя тоже подходили к концу, так как рост его престижного потребления сказывался и на финансировании армии. Внутри количественно выросшей элиты усиливалась борьба за пересыхавшие потоки ренты [Tisdell and Svizzero 2015].
В конечном счете, когда доведенные до отчаяния крестьяне восставали, то к ним обычно присоединялась и часть правящего слоя, надеявшаяся таким способом убрать соперников. На погрузившееся в состояние смуты государство могли напасть соседи. Дело могло обернуться не только обрушением правящей династии, но и распадом страны.
Но в ходе мятежей, войн, связанных с ними голодовок и эпидемий погибала весомая доля населения, часть земель высвобождалась. Поэтому когда одна из соперничавших сил побеждала, воцарялась новая династия или же на месте разрушенного создавалось новое государство, то какое-то время численность населения и подушевой доход могли расти в тандеме – за счет освоения опустевших земель. А с достижением определенной демографической плотности подушевой доход опять начинал снижаться, снова прогрессировали протопромышленность и торговля. Все, таким образом, повторялось заново, мальтузианскому обществу были свойственны циклические закономерности функционирования10.
Итак, в традиционных обществах некоторый экономический рост, который можно назвать «мальтузианским», имел место: абсолютный ВВП увеличивался главным образом благодаря экстенсивным факторам (приросту населения и обрабатываемых земельных площадей), но тенденция к увеличению подушевого ВВП была слабой и неустойчивой. Мальтузианский рост был очень медленным, он периодически прерывался тяжелыми кризисами. А вкрапления в него интермедий смитианского роста не выводили экономику на качественно новый уровень, в определенном смысле они даже усугубляли мальтузианские кризисы. Социальная динамика явственно напоминала движение по кругу.
Складывавшиеся у людей, живших в традиционных обществах, психологические ожидания У. Ростоу определял как «долгосрочный фатализм» [Rostow 1971], а Р. Нелсон – как «социокультурную инерцию» [Nelson 1956]. Г. Кларк писал, что в обществах мальтузианской эпохи «преобладали расточительность, импульсивность, насилие и любовь к безделию» [Кларк 2013. С. 239]. Но К. Поланьи настаивал, что поведение людей традиционного общества было вполне рациональным, только у него была особая логика, основанная на навыках существования внутри редистрибутивной системы [Polanyi 1944].
К. Азариадис и Дж. Стачурски использовали более новомодный термин «зависимость от наезженной колеи» (path dependency). Они отметили, что замыкание в «мальтузианской ловушке» может быть связано с неполной рациональностью поведения индивидов, порожденной институциональной инерцией. Люди могут отвергать новации, даже если те сулят им большее благосостояние, просто потому, что они рискуют оказаться в ситуации, в которой они до этого никогда не были. У них нет соответствующего опыта, а потому нет и знаний, как вести себя. Иначе говоря, неадекватные ожидания формируются потому, что выход из застоя – это движение к неизведанному [Azariadis and Stachurski 2005]. Тем труднее объяснить, как же все-таки на смену тысячелетиям относительной стагнации пришла повседневность перемен, ассоциирующихся с СЭР. В теории экономического развития предложены альтернативные ответы на этот вопрос, но обсуждение их выходит за рамки данной статьи.
Продолжение статьи читайте в следующем номере журнала «Современная мировая экономика»
Библиография
Аджемоглу Д., Робинсон Дж. Почему одни страны богатые, а другие бедные. Происхождение власти, процветания и нищеты. М.: Изд-во АСТ, 2015.
Афанасьев В.С. Этапы развития буржуазной политической экономии: Очерк теории. М.: Экономика, 1988.
Васильев Л.С. История Востока. Т. 1. М.: Высшая школа, 1998.
Гайдар Е.Т. Долгое время. Россия в мире: очерки экономической истории. М.: Дело, 2005.
Де Фрис Я. Революция трудолюбия: потребительское поведение и экономика домохозяйств с 1650 года до наших дней. М.: Дело, 2016.
Зарин В.А. Запад и Восток в мировой истории XIV–XIX вв.: Западные концепции общественного развития и становление мирового рынка. М.: Наука, 1991.
Илюшечкин В.П. Эксплуатация и собственность в сословно-классовых обществах (Опыт системно-структурного исследования). М.: Наука, 1990.
Кембриджская экономическая история Европы Нового и Новейшего времени. Т. 1: 1700–1870. М.: Изд-во Института Гайдара, 2014.
Кларк Г. Прощай, нищета! Краткая экономическая история мира. М.: Изд-во Института Гайдара, 2013.
Кобищанов Ю.М. Теория большой феодальной формации // Вопросы истории. 1992. № 4-5. С. 57-72.
Лукас Р. Лекции по экономическому росту. М.: Изд-во Института Гайдара, 2013.
Мальтус Т. Опыт о законе народонаселения. М.: Наше завтра, 2022.
Маркс К. Капитал. Критика политической экономии. Т. 1. М.: Политиздат, 1983.
Маркс К. Теории прибавочной стоимости. (4-й том «Капитала»). Ч. 2. М.: Политиздат, 1978.
Маркс К. Экономические рукописи 1857–1861 гг. (первоначальный вариант «Капитала»). Ч. 1. М.: Политиздат, 1980.
Мельянцев В.А. Восток и Запад во втором тысячелетии: экономика, история и современность. М.: Изд-во МГУ, 1996.
Мокир Дж. Рычаг богатства. Технологическая креативность и экономический прогресс. М.: Изд-во Института Гайдара, 2014.
Мугрузин А.С. Роль природного и демографического факторов в динамике аграрного сектора средневекового Китая (к вопросу о цикличности докапиталистического производства) // Исторические факторы общественного воспроизводства в странах Востока. М.: Наука, 1986. С. 11–44.
Мэддисон Э. Контуры мировой экономики в 1–2030 гг. Очерки по макроэкономической истории. М.: Изд-во Института Гайдара, 2015.
Нефедов С.А. Экономические законы истории // Вопросы экономики. 2012. № 12. С. 118-134.
Нуреев Р.М. Античный полис: краткая политико-экономическая характеристика // Экономическая роль государства в условиях анатагонистических способов производства. М.: Изд-во МГУ, 1979. С. 33–55.
Петров А.М. Внешняя торговля древней и средневековой Азии в отечественном востоковедении (обзор литературы и попытка нового подхода к исследованию проблемы) // Исторические факторы общественного воспроизводства в странах Востока. М.: Наука, 1986. С. 149-183.
Померанц К. Великое расхождение: Китай, Европа и создание современной мировой экономики. М.: Дело, 2017.
Текеи Ф. К теории общественных формаций. М.: Прогресс, 1975.
Утченко С.Л. Политические учения Древнего Рима III–I вв. до н.э. М.: Наука, 1977.
Энгельс Ф. Анти-Дюринг. Переворот в нaуке, произведенный господином Евгением Дюрингом // Маркс К., Энгельс Ф. Избранные сочинения. Т. 5. М.: Политиздат, 1986. С. 1–302.
Azariadis C., Stachurski J. Poverty Traps // Aghion Ph., Durlauf S. (eds.). Handbook of Economic Growth. Vol. 1A. Amsterdam, etc.: Elsevier, 2005. P. 295–384.
Boserup E. The Impact of Population Growth on Agricultural Output // Quarterly Journal of Economics. 1975. Vol. 89. No. 2. P. 257–270.
Bryant J. The West and the Rest Revisited: Debating Capitalist Origins, European Colonialism, and the Advent of Modernity // Canadian Journal of Sociology. 2006. Vol. 31. No. 4. P. 403–444.
Chirot D. The Rise of the West // American Sociological Review. 1985. Vol. 50. No. 2. P. 181–195.
Coleman D. Proto-Industrialization: A Concept Too Many // Economic History Review. 1983. Vol. 36. No. 3. P. 435-448.
Crafts N., Mills T. From Malthus to Solow: How Did the Malthusian Economy Really Evolve? // Journal of Macroeconomics. 2009. Vol. 31. No. 1. P. 68-93.
Elvin M. The Pattern of the Chinese Past. Stanford: Stanford University Press, 1973.
Galor O. From Stagnation to Growth: Unified Growth Theory // Aghion Ph., Durlauf S. (eds.). Handbook of Economic Growth. Vol. 1A. Amsterdam, etc.: Elsevier, 2005. P. 171–293.
Goldstone J. Efflorescences and Economic Growth in World History: Rethinking the “Rise of the West” and the Industrial Revolution // Journal of World History. 2002. Vol. 13. No. 2. P. 323-389.
Kelly M. The Dynamics of Smithian Growth // Quarterly Journal of Economics. 1997. Vol. 112. No. 3. P. 931–964.
Kogel T., Prskawetz A. Agricultural Productivity Growth and Escape from Malthusian Trap // Journal of Economic Growth. 2001. Vol. 6. No. 4. P. 337–357.
Lee R., Anderson M. Malthus in State Space: Macroeconomic-demographic Relations in English History, 1540 to 1870 // Journal of Population Economics. 2002. Vol. 15. No. 2. P. 195-220.
Lewis W.A. Economic Development with Unlimited Supplies of Labour // The Manchester School of Economic and Social Studies. 1954. Vol. 22. No. 2. P. 139–191.
Lueger T. The Principle of Population vs. the Malthusian Trap. A Classical Retrospective and Resuscitation. 2018 // https://ideas.repec.org/p/zbw/darddp/232.html (доступ 12 сентября 2023).
Madsen J., Robertson P., Ye Longfeng. Malthus Was Right: Explaining a Millennium of Stagnation // European Economic Review. 2019. Vol. 118. No. C. P. 56-68.
Mendels F. Proto-industrialization: The First Phase of the Industrialization Process // Journal of Economic History. 1972. Vol. 32. No. 1. P. 241-261.
Mokyr J. Demand vs. Supply in the Industrial Revolution // Journal of Economic History. 1977. Vol. 37. No. 4. P. 981–1008.
Nelson R. A Theory of the Low-level Equilibrium Trap in Underdeveloped Economies // American Economic Review. 1956. Vol. 46. No. 5. P. 894-908.
Polanyi K. The Economy as Instituted Process // Trade and Market in the Early Empires. Economies in History and Theory. Glencoe: Free Press, 1957. P. 243–270.
Polanyi K. The Great Transformation: The Political and Economic Origins of Our Time. Boston: Beacon Press, 1944.
Tisdell C., Svizzero S. The Malthusian Trap and Development in Pre-Industrial Societies: A View Differing from the Standard One. 2015 // https://www.researchgate.net//publication/ (доступ 12 сентября 2023).
Rostow W. The Stages of Economic Growth. A Non-Communist Manifesto. Cambridge (Mass.): Cambridge University Press, 1971.
Voightlander N., Voth H.J. Malthusian Dynamism and the Rise of Europe: Make War, Not Love // American Economic Review: Papers and Proceedings. 2009. Vol. 99. No. 2. P. 248–254.
Voightlander N., Voth H.J. Why England? Demographic Factors, Structural Change and Physical Capital Accumulation during the Industrial Revolution // Journal of Economic Growth. 2006. Vol. 11. No. 4. P. 319–361.
Примечания
1 По оценкам Мэддисона, Англия и некоторые другие европейские страны по уровню подушевого ВВП уже к 1500 г. опередили Китай – прежнего лидера мировой экономики. Но есть и другие точки зрения. Историки «калифорнийской школы» утверждают, что сходные с европейскими технологические и институциональные изменения в позднее Средневековье и Новое время происходили и на Востоке. Так, К. Померанц считает, что даже в середине XVIII в. уровни благосостояния в Англии и дельте Янцзы (наиболее развитой части Китая) были примерно одинаковыми. Дивергенция между ними стала заметной только к 1800 г. [Померанц 2017].
2 Как Фойтландер и Фотх, так и Г. Кларк отмечают, что распространению эпидемий способствовало также развитие торговли на дальние расстояния. Сказывались и плохие санитарные условия в европейских городах, в том числе из-за скученности населения за городскими стенами в условиях частых войн [Кларк 2013].
3 Кларк и историки «калифорнийской школы» вообще склонны считать, что контроль над рождаемостью был свойственен всем мальтузианским обществам, а не только западноевропейским. Просто, скажем, в Китае и других странах Восточной Азии, где преобладали ранние браки, он осуществлялся по-другому, в частности, посредством инфантицида новорожденных девочек. Но этот тезис пока выглядит очень спорным, он аргументировано критикуется многими специалистами [Bryant 2006].
4 М. Элвин на материалах по Китаю эпохи династии Сун (X–XIII вв.) показал, как конкретно выглядели механизмы научно-технического прогресса в традиционном обществе. Запрос на новые медицинские технологии и пополнение фармакопеи в тогдашнем Китае создавался ростом заболеваемости в городах и выявлением новых болезней в связи с освоением южных регионов страны. Использование угля в металлургии расширялось по мере сведения лесов в северных провинциях. Новые методы добычи железной руды и меди появились вследствие увеличения спроса на оружие и металлические деньги. Изобретению и распространению книгопечатания способствовала миссионерская деятельность буддистов. Компас появился изначально как инструмент геомантии – искусства располагать здания в гармонии с пожеланиями сверхъестественных сил. Нужды государственного управления и экспансия коммерческих расчетов ускорили исследования в области математики. Астрономия прогрессировала под воздействием государственной политики установления регулярного календаря [Elvin 1973].
5 В последние годы в российской экономической науке приобрели некоторую популярность воззрения Д. Аджемоглу и Дж. Робинсона, которые подразделили экономические и политические институты всех времен и народов на «инклюзивные» (защищающие права собственности, обеспечивающие беспристрастность правосудия, гарантирующие равные возможности входа на рынки и выбора профессии) и «экстрактивные» (направленные на то, чтобы выжать по максимуму доход из одной части общества и направить его на обогащение другой части). Аджемоглу и Робинсон утверждают, что «экстрактивные» институты не могут обеспечить долговременное, устойчивое экономическое развитие [Аджемоглу и Робинсон 2015]. Логика модели Тисделла и Свиззеро добавляет аргументов тем, кто считает, что концепция Аджемоглу и Робинсона внеисторична и страдает сильными упрощениями.
6 Э. Бозеруп показала, что острая фаза кризиса могла быть отсрочена, если происходил переход к более интенсивному землепользованию. Прекращалось выведение земли под пар (а он раньше использовался и для выпаса скота), что увеличивало площади одновременно обрабатывавшихся земель и на какое-то время создавало противовесы снижению урожайности. При этом усиливались риски эрозии почв, а потому требовалось больше рабочих рук для борьбы с сорняками и паразитами, для орошения. Теперь нужно было и специальное выращивание кормовых культур для скота. Все это способствовало увеличению занятости в земледелии, оно становилось более трудоемким [Boserup 1975].
7Впрочем, вполне в традициях «калифорнийской школы», ищущей параллели везде и всюду, Дж. Голдстоун утверждает, что у «расцветов» могли быть и причины, не связанные с развитием протопромышленности и торговли, например – строительство ирригационных сооружений и пирамид в ходе общественных работ, организуемых государством; реконструкция экономики после социальных катаклизмов; активизация международных контактов и др. Сами «расцветы» он трактует как выход за рамки мальтузианских ограничений, хотя его собственный анализ, скорее, наводит на мысли, что «расцветы» — это часть мальтузианской динамики.
8 Правда, нет недостатка в желающих доказать обратное и дать тем самым простое объяснение выхода из «мальтузианской ловушки». По мнению Т. Люгера, Промышленная революция случилась потому, что демографическое давление потребовало дальнейшего углубления специализации, так что это было логическое продолжение процессов, которые шли и в рамках традиционного общества. Разница между Промышленной и неолитической революцией (переходом от охоты и собирательства к оседлому земледелию) лишь количественная – в скорости изменений [Lueger 2018]. М. Келли выводит Промышленную революцию из прогресса специализации под влиянием установления все новых горизонтальных связей и задействования тем самым потенциальной емкости рынка [Kelly 1997]. Т. Когел и А. Прскавец объясняют начало индустриализации действием эффекта Энгеля (неэластичностью спроса на продовольствие по доходу). По их логике, с увеличением доходов домохозяйств потребности в питании насыщаются, происходит сдвиг спроса в сторону непродовольственных товаров, а это и создает условия для перемещения рабочей силы и других ресурсов в неаграрные сферы деятельности [Kogel and Prskawets 2001].
9 Н. Фойтландер и Г.И. Фотх пишут о многократно происходивших до 1750 г. в разных странах «фальстартах» Промышленной революции: экономический рост ускорялся в связи с развитием протопромышленности, на какое-то время повышался жизненный уровень, но устойчивым такой рост не становился [Voightlander and Voth 2005].
10 Описание традиционных (династийных) циклов в истории Китая, которое можно назвать классическим, было дано А. Мугрузиным. Но он трактовал такую динамику как специфическую особенность этой страны и пытался вписать свои наработки в рамки марксистской парадигмы [Мугрузин 1986]. С. Нефедов приводит обзор литературы, посвященной проявлениям мальтузианских закономерностей в экономической истории Европы, и предлагает собственную модель цикла, присущего традиционным обществам, выдержанную в мальтузианском духе [Нефедов 2012].


.jpg)